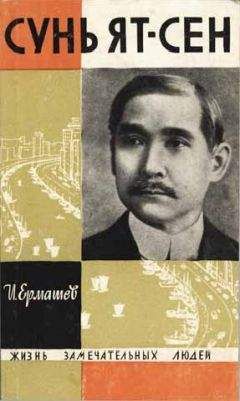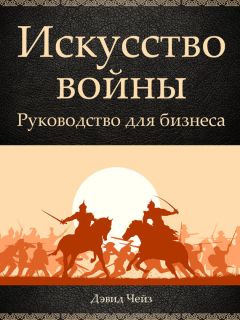И тут Кошкин взорвался:
— Извольте прекратить! Я не желаю!..
— Соберись и успокойся, — посоветовал Иван. — Ты не хочешь сравняться с тем, кто дал имена всем Божьим творениям? Извини, я не верю. — Он повернулся к могу: — Ну что ж, приступим.
Бадняк не сдвинулся с места.
— Что-то не так?
— Скажи, — голосом чёрствым, как корка, спросил старый мог, — ведь ты всё равно не позволишь ему остаться тем, кто он есть?
— Разумеется, — кивнул генерал.
— Почему?
— Пустяк, безделка — просто утром, когда мы с князем играли в городки, его рубашка пахла иланг-илангом.
Легкоступов вздрогнул, а между Иваном и могом вновь проскочила молния. «Чушь, — подумал Пётр. — Так это не награда, это — казнь. Он просто хочет извести всех её любовников. Чушь». В груди у него сделалось жарко — когда-то Петруше самому очень этого хотелось, однако теперь он постарался выгрести из сердца все воспоминания, как мёртвых пчёл из гиблого улья.
Бадняк подал генералу фарфоровую воронку с гуттаперчевой гулькой на носике, и тот, двумя пальцами сдавив Феликсу под скулами щёки, заставил князя открыть рот.
— Чудовище! — гневно прошепелявил Кошкин. — Пушть матери, тебя вшкормившей, вечно в аду одну грудь шошёт жаба, а другую жмея!
— Меня выкормила крестьянка-наймичка, — сказал Некитаев и впихнул гульку князю в рот, как кляп.
Воскурив на кофейном столике какой-то фимиам, Бадняк в тишине, нарушаемой лишь мычанием Феликса, взял узкий нож и рассёк Ивану руку. Из раны выступила тёмная кровь. Мог слегка помассировал руку генерала, оживляя ток в жилах, позволил струйке крови стечь в воронку, которая была вставлена Феликсу в глотку, после чего обжёг рану, судя по запаху, чачей и перебинтовал. Затем Бадняк взял со столика свинцовый тюбик и, быстро свинтив крышку, с каким-то тихим заклятием выжал его над воронкой. Из тюбика выскользнуло облачко прозрачного марева, зыбкий невещественный барашек, пульсирующий в каком-то остервенелом ритме и словно бы кричащий, но так, что крик этот слышался животом, а не ушами. Почуяв кровь своего губителя, освобождённая душа Каурки бросилась Феликсу в глотку и он утробно взвыл, будто в кишки его запустили лисёнка. Петруша только однажды слышал такой вой: это было в Царьграде, во время гражданского самосуда над одним курдом, продававшим девственниц-христианок в турецкие гаремы, — ему вырвали язык, отрезали нос и веки, а глаза посыпали солью.
На зажжённой спиртовке стоял тигелёк с медовым расплавом смолы, приготовленной, если верить могу, по рецепту Гермеса Трисмегиста — того самого, что запирал сокровища при помощи магических зеркал, попросту переводя их в отражения, так что в зеркале они существовали, а вернуть их в реальный мир было уже никак невозможно. Разве что опять вызывать трижды великого. Как только глаза князя закатились, вывернувшись на свет налитыми кровью белками, Бадняк сцедил смолу в воронку и запечатал в теле Кошкина Кауркину душу, чтобы она, распознав обман, не смогла выскользнуть наружу. В горле бедняги раздалось клокотание, будто в кастрюле пучило пузырями кашу, и он смолк. За ненадобностью мог выдернул изо рта князя гуттаперчевую гульку. Феликс сидел в роковом капкане и под его человеческой оболочкой шла радикальная реформа: он больше не был прежним Кошкиным, он был куколкой — колыбелью Кошкина нового. Или… уже совсем не Кошкина.
Князя-куколку ломала жестокая судорога и смотреть на это было невыносимо. К тому же воскурённый фимиам больше не спасал от смрада испражнений — судя по запаху, вполне ещё человеческих.
— Я, собственно, хотел выяснить, имеет ли душа пол, — угрюмо признался Бадняк, словно хирург, нарушивший клятву Гиппократа. — Об этом есть разные мнения.
— Скажи-ка, — Иван как будто не заметил смущение мога, — а по силам тебе изловить тень Надежды Мира?
— Можно справиться с душами тех, кто при жизни поражал Божий свет неделаньем и беспечными чувствами, а Надежда Мира восстала против великого умысла, разделившего небо и землю, и не приняла творения. Даже во сне она была яростнее бодрствующих, и поэтому сон её был столь прозрачен, что, не просыпаясь, она выглядывала из него в явь, как тритон из лужи.
— Тогда, господа, приглашаю на чашку чая, — улыбнулся генерал и взглянул на Петрушу: — Что-то ты бледен, дружок, и тени под глазами…
— Ты не боишься? — спросил Легкоступов Ивана, когда они вышли на крыльцо, оставив Бадняка на лобном месте собирать свой жёлтый саквояж.
— Чего?
— Допустим, Бог выдохнул мир. Но вот пришёл дьявол…
— Бог снёс мир, как наседка — яйцо. Но устал его высиживать и пошёл поклевать зёрнышек. — Некитаев поднял голову к небу, где были синь и два ветра, гнавшие облака в разные стороны. — Теперь мир обречён. День ото дня он становится хуже и в конце концов протухнет. Тогда Бог бросит его в помойное ведро — это и будет светопреставление.
— Тогда зачем мы делаем то, что делаем? Или теперь власть для тебя — только цель, а не средство, чтобы заново окрестить вещи?
— Я не хочу, чтобы мир протух. Я хочу вывести из него цыплёнка или разбить в яичницу.
— Поэтому я и спрашиваю: ты не боишься?
— Чего?
— Мы заигрываем с дьяволом. Ты не боишься, что он придёт и выпьет яйцо, которое снёс Бог?
Иван опустил взгляд.
— Я видел, как с человека снимают кожу, точно чулок, сделав лишь один надрез вокруг шеи. Теперь мне не страшен даже дьявол. — Некитаев помолчал. — Когда-то ты спрашивал, почему я выигрывал все битвы, в которых мне приходилось сражаться. Всё очень просто — я приручил страх, чтобы он не приручил меня. И с тех пор ужас стал моим союзником. Иначе он стал бы врагом. Потому что ужас — оружие, которым всегда кто-то владеет. Кто-то один.
Он снова посмотрел на небо и в тот же миг там родился третий ветер, который не был виден, потому что его ярусу не хватило облаков, но чьё присутствие выдавал свист — тугой и холодный.
Глава 8
Перед потопом
(за полгода до Воцарения)
…в последние пятьдесят лет пульс мужчин стал таким же, как пульс женщин. Заметив это, я применил одно женское лекарство при лечении мужчин и обнаружил, что оно помогает. Когда же я попробовал применить мужское лекарство для женщин, я не заметил улучшения. Тогда я понял, что дух мужчин ослабевает. Они стали подобны женщинам и приблизился конец света.
Ямамото Цунетомо, «Хагакурэ»
— Вы подумали?
— Подумали.
— И что?
— Теперь надо обмозговать.
Легкоступов отошёл к окну.
Снаружи смеркалось. Московский двор с чёрными гидрами деревьев кое-как освещал фонарь, заряженный бледно-сиреневым мерцанием. Порывисто дул ветер и срывал с облаков снег. Матери звали детей домой. Дети прикидывались глухими. Жизнь за стеклом была рубленной. Как щепа. Как фраза.