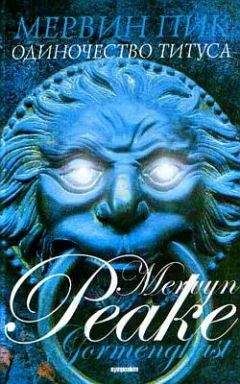Старик сидит очень спокойно, лишь время от времени поднимая руку и вглядываясь во что-то, ползущее по его запястью.
Жена старика более деятельна – здесь, там, повсюду вокруг нее свисают разноцветные нити пряжи, отчего она выглядит увешанной целыми гирляндами их. Старуха, чьи глаза воспалены и красны, давно забросила всякую мысль о вязании и теперь коротает время в попытках распутать завязавшиеся в пряже узлы. Было время, совсем уж давнее, когда она понимала, что делает, были и времена еще более далекие, когда всякий узнавал ее по стрепету спиц. Он составлял часть, пусть и крошечную, Подречья.
Теперь уж не то. Теперь она вся ушла в распутывание пряжи. Время от времени старуха поднимает глаза и встречается взглядом с мужем, и они обмениваются улыбками, трогательно нежными. Маленький ротик ее копошится, словно она хочет что-то сказать, но это лишь шевеленье морщинистых губ, к словам оно отношения не имеет. У старика же ничего нельзя разглядеть за длинной волосяной вуалью бороды; где там у него рот, непонятно… вся его любовь изливается лишь через глаза. В занятиях жены он не участвует, зная, что оно – единственная ее радость и что узлы и перевивы нитей наверняка ее переживут.
Впрочем, на этот раз старушка, услышав гиканье, поднимает голову от работы.
– Иона, милый, – произносит она, – ты здесь?
– Конечно, здесь, любовь моя. Что такое? – откликается старик.
– Мысли мои убрели в прошлое… в те времена… почти еще до того, как я… почти как если бы… чем же я тогда занималась? Не могу припомнить… никак не могу…
– Конечно, белочка моя; все было так давно.
– Но одно я помню, Иона, милый, хотя были ль мы вместе… ох, конечно же были. Мы ведь убежали, правда, упорхнули, как два перышка, от наших врагов. Какие мы были красивые, Иона, я и ты, скакавший рядом со мной по лесу… ты слушаешь, дорогой?
– Конечно, конечно…
– Ты был моим принцем.
– Да, белочка моя, так и было.
– Я устала, Иона… так устала.
– А ты откинься назад, дорогая.
Он попытался выпрямиться, чтобы коснуться ее, но не смог, поскольку первое же движение отозвалось в нем приступом боли.
Один из четверых, играющих за мраморным столом в карты, оборачивается на негромкий стон, но, так и не сумев понять, откуда тот взялся, снова возвращается к изучению своих карт. Другим, кто услышал стон, оказывается практически голый младенец, ползущий к дряхлой чете, волоча за собой левую ногу, как если бы та была мертвым, никчемным придатком.
Добравшись до кушетки, на которой сидит, вновь погрузившись в молчание, чета стариков, младенец принимается разглядывать их с сосредоточенностью, которая, будь он взрослым, могла бы смутить обоих. Затем младенец встает, вцепившись, чтобы удержать равновесие, в край кушетки. В глазах оборвыша светится невинность, слишком трогательная, чтобы в них можно было смотреть подолгу. Предельная невинность, выжившая вопреки всему мировому злу.
Или это, как мог бы подумать кто-то, попросту пустота? Лазурная бездонность? Слишком ли циничным было бы счесть, что у ребенка нет в голове ни единой мысли и ни единого проблеска света в душе? Но почему же тогда он в самый что ни на есть чувствительный миг вдруг облился слезами и прорезал сумрак по золотистой дуге?
Напустив, с несосветимой смесью равнодушия и торжественности, маленькую лужу, младенец замечает чайную ложку, поблескивающую в тенях под кушеткой, плюхается на голую попку, выпрямляется и уползает к сокровищу. Младенец выглядит истинным воплощением целеустремленности. О крохотном привеске своем он забыл, и тот болтается в воздухе, будто слизень. Всякий интерес к нему младенец утратил. Ложка – вот его все.
Но привесок уже успел совершить дело самое злое… при всей невинности его, при всем неведении, ибо подверг массированному удару фалангу боевых муравьев, которые, ничуть не догадываясь, какой на них надвигается ливень, переходили сильно пересеченную местность.
Малыш, а с ним отец и мать, беженцы с Железного Берега, сидят друг против друга за столом. Отец разыгрывает свои карты, используя для этого лишь малую часть мозга. Все остальное – орудие острое, как коса, – пребывает далече отсюда, в чистом царстве уравнений.
Его супруга, женщина с массивными челюстями, бросает на него привычно гневные взгляды. Как и всегда, она уже выиграла столько условных денег, что хватило бы на дюжину состояний. Но насколько она способна судить, здесь, в Подречье, да и где бы то ни было, денег для них нет. Все пошло вкривь и вкось. Дядя ее был некогда генералом, а брата и вовсе однажды представили герцогу. И что теперь от этого толку? Те были настоящими мужчинами. А у мужа только и есть что голова. Не следовало им покидать Железный Берег. И жениться тоже не следовало, а что касается сына… лучше б ему было и не рождаться. Женщина обращает к мужу костлявое лицо. Каким холодным он выглядит, каким бесполым!
Она поднимается на ноги.
– Мужчина ты или нет? – кричит она.
– Прелестный вопрос! – отзывается голос, похожий на звук треснувшего колокола. – «Мужчина ты или нет?» – спрашивает она. Как забавно! Как шаловливо! Ну-с, господин Зет? Мужчина ли вы?
Блестящий, умеющий отчетливо выражать свои мысли, господин Зет обращает опушенные белыми ресницами глаза к жене, но видит лишь Тх1/4 рЗ/4 = 1/2 – рrх1/4 (инвертированное). Следом он обращает их же к стройному, гибкому человеку с надтреснутым голосом и вдруг понимает, что последние три года конструктивного мышления он потратил впустую. Исходные посылки его были неверны. С какой это стати решил он, будто Вселенной присуще внутреннее устроение?
Сообразив, что достучаться до этого господина не проще, чем добраться до горизонта, Треск-Курант отбрасывает со лба волосы, смеется, как карильон, и не обинуясь машет рукой партнерам по картам, словно бы говоря: «Ну разве не чудо?»
Однако партнер его, трезвый и рассудительный Возник, никакого тут чуда не видит и потому откидывается, полузакрыв глаза, на спинку кресла. Человек он плотный, вдумчивый, не склонный к экстравагантности ни в мыслях, ни в поступках. Он внимательно следит за Треск-Курантом, поскольку тот имеет склонность выходить за рамки приличия.
Да, Треск-Курант счастлив. Жизнь для него состоит из «сейчас» и ничего кроме «сейчас». Прошлое забывается им, едва миновав, а концепция будущего ему и вовсе безразлична. Зато мимолетный миг заполняет его целиком. Есть у него привычка трясти головой – не по причине несогласия с чем бы то ни было, но из-за пикантности самого бытия. Он мотает головой туда и сюда, так что кудри его выделывают курбеты.
– Тот еще типчик, ваш муж, – восклицает Треск-Курант, перегибаясь через стол и хлопая госпожу Зет по весноватому запястью. – Он безупречен, а? А? А? Но такой угрюмый… Почему он не играет, не веселится?