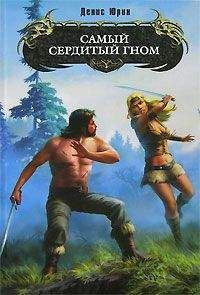Очнувшись от очередного толчка, Пархавиэль долго кашлял и ворочался с боку на бок, пытаясь побороть раздирающие горло спазмы удушья, а также боль от многочисленных ушибов и ран, полученных во время схватки с лесничим. Затем физические страдания отошли на второй план, уступив место страху перед предстоящими испытаниями.
Крепко связанный по рукам и ногам и брошенный как тюк с опилками на грязное днище телеги, гном отчетливо помнил события минувшего дня и понимал, что если его не добили на месте, а повезли в город, то быстро он не умрет. До погружения в сладостное забытье смерти ему предстояло пройти через сущий ад боли и унижений, долгих пыток и бессмысленных допросов. Он ничего не знал о банде Сегиля из Геркании, но убедить в этом зацикленных на своих проблемах и бедах людей было невозможно.
Вскоре эмоции куда-то ушли, Пархавиэль перестал нервничать и начал воспринимать свое положение отрешенно, как само собой разумеющееся последствие той странной игры, которую вела с ним злодейка-судьба. Всемогущая апатия полностью захватила разум, приглушила переживания и внушила мысль о бессмысленности активных действий.
Действительно, к чему впустую растрачивать силы и нервы в бесполезных попытках сбежать или разжалобить палачей? К чему пытаться обмануть конвоиров, если холодный, трезвый рассудок уже давно просчитал все возможные варианты и пришел к неутешительному заключению: «шансов нет». Ждать, ждать удобного случая – это единственное, что оставалось пленнику.
Успокоившись, Пархавиэль приподнял голову и, поборов боль в ноющих шейных позвонках, огляделся по сторонам. Не считая возницы, плешивого старика в грязных лохмотьях, людей было семеро: четверо ехали на лошадях и трое шли пешком позади телеги. Короткие кольчуги со следами ржавчины, натянутые поверх холщовых рубах, деревянные дубины с вбитыми в них гвоздями и грубые топоры, пригодные лишь для мелких хозяйственных работ, а не для битвы, как нельзя лучше характеризовали основной род занятий своих владельцев и подчеркивали их весьма относительную причастность к армейской службе. Однако Пархавиэлю от этого было не легче. Плохая амуниция и явное отсутствие элементарных познаний в военном деле с лихвой компенсировались численностью конвоя и заметной с первого взгляда недюжинной физической силой крестьян. Отдельные обрывки фраз, долетавшие до слуха гнома, не давали никакой полезной информации, а только раздражали слух непривычным звучанием чужой, протяжно мяукающей речи.
«И зачем я только это делаю? – думал гном, вновь опустив голову на телегу и закрыв глаза. – Какая мне разница, сколько охранников и как они вооружены? Руки-то все равно связаны, а чуть попытаюсь ослабить путы, сразу заметят. Вон тот рябой детина так косился, а я всего лишь голову приподнял. Если заметят, что по телеге ерзаю, сразу дубиной огреют как пить дать!»
Из состояния душевного спокойствия и внешнего безразличия ко всему происходящему вокруг гнома вывел внезапно раздавшийся треск сухой древесины и последовавший за ним удар макушкой о неизвестно зачем прихваченный ополченцами в город чугунный котелок. Старенькая повозка не выдержала длинной дороги и при столкновении с очередным булыжником развалилась. Сила толчка слегка подбросила грузное тело пленника в воздух и вместе с остальной поклажей выбросила на обочину.
Громко вскрикнув от боли и обличив затем в самой что ни на есть грубой форме халатное отношение людей к походному имуществу, гном вернулся из мира тяжких раздумий и открыл глаза.
В отличие от караванщика, сразу определившего, что срок службы повозки исчисляется часами, поломка телеги застала ополченцев врасплох. Громко ругаясь и импульсивно размахивая руками, всадники спешились и принялись поднимать перевернутую телегу. Остальные вытащили топоры и, отвесив в сердцах незадачливому вознице по паре увесистых оплеух, не спеша удалились в лес.
Отряд разделился, но шансов на побег у Пархавиэля все равно не было, уж слишком добротными были ремни, стянувшие его запястья. Гном собирался снова уйти в себя, но тут его осенила радостная мысль, заставившая даже слегка улыбнуться разбитыми в кровь губами. Дело в том, что поломка оказалась серьезной: от удара о камень раскололось правое колесо и, что самое важное, треснула пополам рессора. О быстрой починке не могло быть и речи.
«Люди разобьют лагерь и останутся на месте, по крайней мере несколько часов. Пока съездят за инструментами в ближайшее селение, пока устранят поломку… – мелькнул в голове гнома проблеск надежды. – На меня же тем временем будут обращать не больше внимания, чем на разбросанное по земле барахло. Я все же смогу ослабить ремни, а затем выберу удачный момент, избавлюсь от пут и быстро сигану в лес! Сейчас совсем темно, солнце село, и крестьянам в чаще меня не найти!»
К несчастью, люди оказались куда более хитрыми существами, чем предполагал гном. Слабая искра надежды угасла так же быстро, как и возникла. Трое ополченцев вернулись из леса, таща за собой несколько срубленных молодых деревьев. Протянув длинные, гибкие стволы под днищем телеги, изобретательные крестьяне всего за пять минут превратили разбитую повозку в волокушу и, забросив в нее раскиданные по земле вещи и гнома, снова тронулись в путь.
«Если не везет, так во всем», – с философским спокойствием отметил про себя Пархавиэль и закрыл глаза, пытаясь заснуть.
– Вот видишь, говорил же, поутрянке ехать нужно, а ты все одно заладил: «Срочно, важно, в городе волнуются…» – недовольно бурчал ополченец, едущий рядом с командиром конвоя. – Как чувствовал, что везения не будет! Темнота, дороги не видно, а теперь еще и телега сломалась. До города еще далеко, когда доберемся, к полудню, не раньше!
– Заткнись, Дарес! – грубо оборвал жалобные причитания парня командир и, пришпорив коня, отъехал шагов на десять вперед.
Оидрий Вельяфор, десятник окружного ополчения, терпеть не мог Дареса и его старшего брата Лареса именно за этот сомнительный дар предвидения. Любая мелочь, любой незначительный пустяк служили поводом для их занудных причитаний и сетований на непосильный, каторжный труд окружного ополченца. Стоило братьям «затянуть свою песню», как тут же по отряду прокатывалась волна недовольств и пустяковых жалоб, начинали раздаваться крамольные речи и тихие перешептывания, смысл которых был стар как мир и ясен как день: «Меньше работы, больше денег!» Была бы воля Ондрия, уже давно сдали бы братья кольчуги и топоры, но дальнее родство с самим помощником столичного префекта надежно защищало избалованных лоботрясов от справедливой оплаты их «непосильных» трудов.