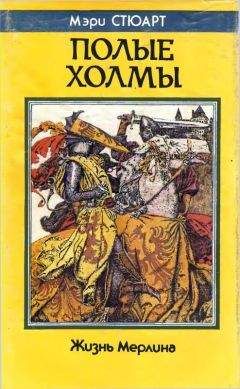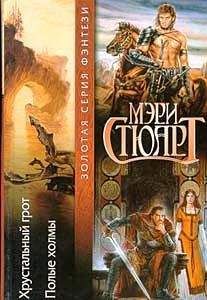И потому приветствие его было учтивым, но без особых почестей.
— Добро пожаловать, господин. Король шлет тебе свой привет. Я должен сопровождать вас в город. Надеюсь, плаванье ваше было удачным?
— Корабельщики говорят, что да, но мне и этой даме что-то не верится, — ответил я.
Он усмехнулся.
— Да, вид у нее зеленоватый. Сочувствую ей. Я и сам не ахти какой мореход. А ты, господин? Сможешь ли верхом доехать до города? Здесь немногим более мили.
— Попробую, — сказал я.
Пока мы обменивались любезностями, Ральф усадил Бранвену в повозку и задернул шторы от утреннего холода. Во время этих передвижений младенец проснулся и заплакал. Отличные легкие были у маленького Артура. Я, вероятно, поморщился, потому что мой новый знакомец поглядел на меня с явной насмешкой. Я сдержанно спросил;
— Ты женат?
— А как же.
— Раньше я все пытался себе представить, что это за радости такие, которых я лишен в жизни. А теперь, кажется, понимаю.
Он посмеялся.
— Всегда можно уехать куда подальше. Ради одного этого стоит быть солдатом. Взбирайся в седло, господин.
И мы поскакали с ним бок о бок в город. Керрек — это довольно большое, наполовину военное поселение, окруженное стеной и рвом и расположенное вокруг срединного холма, на котором стоит королевская крепость. У подножия холма, откуда дорога начинала подъем к крепостным воротам, стоял дом, где жил в годы изгнания мой отец, вместе с королем Будеком собиравший и обучавший здесь войско, чтобы высадиться в Британии и отвоевать ее для себя, ее законного короля.
И вот теперь вместе со мной в Керрек прибыл, быть может, новый и славнейший ее король, чей пронзительный младенческий вопль несся из закрытой повозки, когда мы по деревянному мосту через ров въезжали под своды городских ворот.
Мой спутник ехал рядом со мною и молчал, сзади Ральф с возницей беззаботно болтали, и их голоса вместе с цокотом копыт по булыжной мостовой и побрякиваньем сбруи далеко разносились в сонном утреннем безмолвии. Город еще только просыпался. Перекликались петухи во дворах и на навозных кучах. Отпирались двери домов, и женщины в платках сновали с охапками и ведрами топлива, спеша начать новый трудовой день.
Глядя вокруг, я поневоле радовался молчаливости моего спутника. За пять лет, что я здесь не был, Керрек изменился до неузнаваемости. Оно и понятно: нельзя, должно быть, вывести из города стоявшую в нем армию, которая здесь же формировалась и несколько лет обучалась, и чтобы на ее месте не осталась гулкая пустота. Войско, правда, располагалось тогда снаружи, за городскими стенами; шатры давно сняли; где был лагерь, теперь все поросло травой. Но и сам город, хотя солдаты короля Будека из него и не ушли, непоправимо утратил свой деловитый, целеустремленный характер, отличавший его во времена моего отца. На улице Саперов, где я проходил обучение под началом Треморина, осталось несколько мастерских, из открытых дверей уже доносился с утра пораньше лязг железа, но былая бодрая деловитость ушла вместе с многолюдием и говором толпы, уступив место какому-то пустынному унынию. Я был рад, что наш путь не лежал мимо бывшего дома моего отца.
Мы должны были остановиться у одной супружеской четы. Там нас радушно встретили, Бранвену с мальчиком сразу же увели куда-то в женские владения, а меня проводили в уютную комнату, где горел огонь и стоял накрытый к завтраку стол. Слуга внес мою поклажу и хотел было остаться, чтобы прислуживать мне за трапезой, но Ральф его отослал и сам встал у меня за спиной. Я велел ему сесть и позавтракать вместе со мной, и он принялся уписывать еду как ни в чем не бывало. Позавтракав, Ральф спросил меня, не хочу ли я пойти осмотреть город, и я его отпустил, а сам остался в доме. Я человек не слабый и не так-то легко устаю, но одной короткой поездки по твердой земле и одного хорошего завтрака мне мало, чтобы прогнать мучительную дурноту и слабость, вызванные плаваньем по зимнему морю. И потому, наказав Ральфу перед уходом позаботиться о благополучии Бранвены и младенца, я расположился у очага отдыхать и дожидаться приглашения от короля.
Прибыло оно под вечер, когда зажигали фонари, прибыло вместе с Ральфом, у которого глаза были просто на лбу, а через руку висел пушистый теплый плащ из мягкой шерстяной, с начесом материи густо-синего цвета.
— Вот, король тебе прислал. Наденешь?
— Разумеется. Поступить иначе — значит оскорбить монарха.
— Но ведь это королевский плащ. Люди будут смотреть на тебя и гадать, кто ты такой.
— Нет, не королевский. Это почетный плащ певца. Здесь просвещенный край, Ральф, такой же, как и моя родина. Здесь в почете не только короли и военачальники. В котором часу король примет меня?
— Через час, он сказал. Он примет тебя с глазу на глаз, а потом ты будешь петь перед всеми в дворцовой зале. Чему ты смеешься?
— Хитрости короля Хоэля. Певец является ко двору — что может быть естественнее? Но тут затесалась одна трудность: король Хоэль не выносит музыки. Однако странствующего певца можно еще и расспросить о том, что слышно на белом свете, поэтому король примет меня с глазу на глаз, а потом, если его лордам вздумается слушать мои песни, он сможет преспокойно уйти.
— Однако он прислал еще свою арфу. — Ральф кивнул в угол, где за светильником стояла зачехленная арфа.
— О да, он ее прислал, но она никогда ему не принадлежала. Это моя арфа. — Ральф поглядел на меня с недоумением. Я сказал это слишком резко. Немая арфа целый день стояла у меня на глазах, напоминая о том времени, когда я был ближе всего в жизни к тому, что мог бы назвать счастьем. Здесь, в Керреке, в доме моего отца, я отроком играл на ней чуть не каждый вечер. Я пояснил Ральфу: — На этой арфе я здесь когда-то играл. Как видно, отец Хоэля сберег ее для меня. Едва ли чья-нибудь рука прикасалась к ней с тех пор. Ее надобно испробовать, прежде чем отправляться к королю. Сними-ка с нее чехол.
Тут у дверей заскреблись, и вошел раб с кувшином горячей воды. Пока я мылся и расчесывал волосы, а потом с помощью раба облачался в роскошный синий плащ, Ральф расчехлил арфу и поставил перед креслом.
Эта арфа была много больше той, что я привез с собой из-за моря. Та была ручная, удобная для перевозки, а эта — стоячая, со многими регистрами и такой силой звука, что слышно будет по всему королевскому дворцу. Я тщательно настроил ее и пробежал пальцами по струнам.
Проснуться к любви после долгого сна, вновь шагнуть в поэзию, проведя год на рыночной площади, или в юность, уже побывав в обличье дряхлого, сонного старца; вспомнить, чего чаял от жизни, когда скупые дары ее уже пересчитаны на перепачканных, трезвых пальцах, — вот что такое музыка, когда долго не играл. Душа расправляет крылья и, как птенец на краю гнезда, робко испытывает высоту. Перебирая наугад струны, я искал в моей арфе уснувшие страсти, осторожно, ощупью пробираясь вперед, как ступает во тьме человек по некогда знакомой почве. Тихий лепет, легкий всплеск звука, несколько громких нот. На трепещущих струнах заиграли отблески огня, и длинные золотые нити разразились песней: