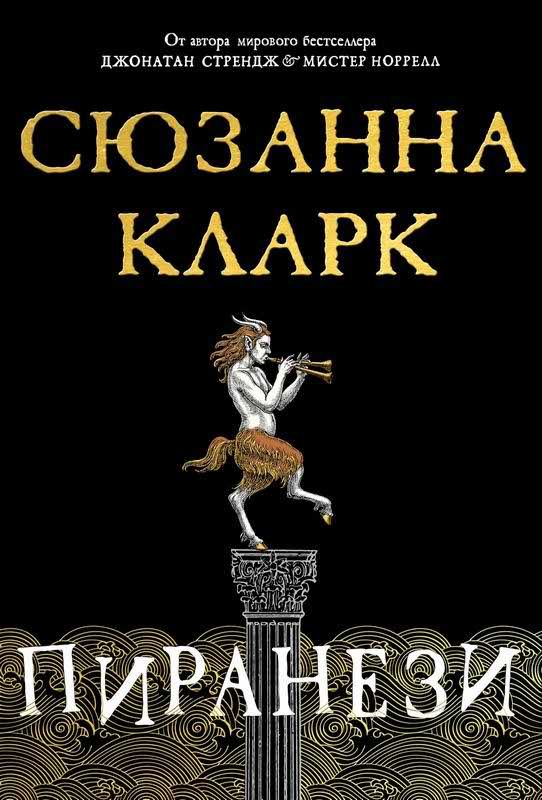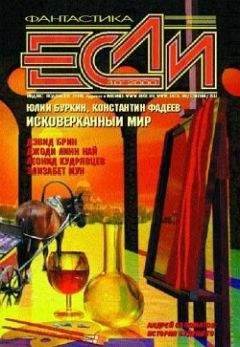писал. Однако он пока отказывается со мной встречаться.
— Похоже на него.
— Я думал, может быть, он не хочет со мной говорить, потому что стыдится прошлого.
Кеттерли коротко, невесело хохотнул.
— Вряд ли. Лоренс ничего не стыдится. Он просто все делает назло. Если кто-нибудь скажет «белое», он скажет «черное». Если вы говорите, что хотите с ним увидеться, он не захочет вас принять. Вот такой он.
Я поднял с пола сумку и достал дневник. Помимо нынешнего дневника, со мной был предыдущий (к которому я обращался почти каждый день), указатель к дневникам и пустая тетрадь, в которой я собирался начать следующий (нынешняя была исписана почти до конца).
Я открыл нынешний дневник и начал писать.
Кеттерли смотрел на меня с интересом.
— Вы пишете ручкой на бумаге?
— Я пишу заметки в формате дневника. Для меня это самый удобный способ упорядочить информацию.
— А вы хороший архивист? — спросил он. — В целом.
— Я превосходный архивист. В целом.
— Занятно, — проговорил он.
— А что? Хотите предложить мне работу? — спросил я.
Кеттерли рассмеялся.
— Не знаю. Может быть. — Он помолчал. — Так зачем вы ко мне пришли?
Я объяснил, что интересуюсь трансгрессивными идеями, людьми, которые их выдвигают, и тем, как их принимают в различных областях — религии, живописи, литературе, естественных науках, математике и так далее.
— А Лоренс Арн-Сейлс — идеальный образец трансгрессивного мыслителя, — продолжал я. — Он преступил множество границ. Он писал о магии, делая вид, будто это наука. Он убедил группу чрезвычайно умных людей в существовании иных миров, куда якобы может их взять. Он был геем, когда это преследовали по закону. Он похитил человека, и никто до сих пор не знает зачем.
Кеттерли не отвечал. К своей досаде, я ничего не мог прочесть на его лице. Если оно что и выражало, то, скорее, скуку.
— Понимаю, все это было давно, — добавил я, стараясь изобразить сочувствие.
— У меня превосходная память, — холодно ответил он.
— О. Замечательно. Сейчас я пытаюсь восстановить картину того, что происходило в Манчестере в середине восьмидесятых. Каково это было — работать с Арн-Сейлсом. Какая была атмосфера. О чем он с вами разговаривал. Чем вас заворожил. Все такое.
— Да-а, — задумчиво протянул Кеттерли, обращаясь к самому себе, — говоря о Лоренсе, всегда употребляют это слово. «Заворожил».
— Вам оно не нравится?
— Конечно, это чертово слово мне не нравится, — раздраженно ответил он. — Вы говорите так, будто Лоренс был кем-то вроде циркового фокусника, а мы — восторженными идиотиками. Все было совершенно иначе. Он любил, когда с ним спорят. Когда защищают рационалистическую точку зрения.
— А потом?..
— Потом он разбивал вас в пух и прах. Его теории были не просто дым и зеркала. Далеко не так. Он все продумал. Не оставил ни одного логического изъяна. И он не боялся соединять разум с воображением. О мышлении досовременного человека он рассказывал убедительнее всех, кого я знаю. — Кеттерли помолчал. — Я не отрицаю, что он прибегал к манипуляциям. Безусловно, и такое бывало.
— Но вы же только что сказали…
— На личном уровне. В личных отношениях Лоренс еще тот манипулятор. На интеллектуальном уровне он был честен, на личном — хитер, как черт. Взять хоть Сильвию.
— Сильвию Д’Агостино?
— Странная девушка. Беззаветно преданная Лоренсу. Единственный ребенок в семье. Очень любила родителей, особенно отца. Оба они — Сильвия и ее отец — были талантливыми поэтами. Лоренс велел ей порвать с родителями, и она послушалась. Послушалась, потому что Лоренс так велел и потому что Лоренс — это волхв [43] и великий чародей, который поведет нас в новую эру человечества. Он ничего не выигрывал от ее разрыва с родителями. Это не обещало ему ни малейших выгод. Лоренс так поступил, потому что ему нравилась власть над людьми. Ему хотелось причинить боль ей и ее родителям. Он поступил так из жестокости.
— Сильвия Д’Агостино — одна из исчезнувших, — заметил я.
— Мне ничего об этом не известно, — ответил Кеттерли.
— Я не думаю, что вы вправе назвать его интеллектуально честным. Он говорил, что бывал в иных мирах. Он говорил, что другие там тоже бывали. Как-то это не совсем честно, а?
Возможно, я произнес это с некоторым высокомерием, которое лучше было бы скрыть, но я всегда любил побеждать в спорах.
Кеттерли нахмурился. Он как будто боролся с желанием что-то сказать. Он открыл рот, но передумал и, чуть помолчав, заметил:
— Вы мне не слишком нравитесь.
Я рассмеялся:
— Переживу.
Наступило молчание.
— Как по-вашему, отчего лабиринт? — спросил я.
— О чем вы?
— Отчего, по-вашему, он описывал иной мир — тот, в котором, по его словам, бывал чаще всего, — как лабиринт?
Кеттерли пожал плечами:
— Видение космического величия, думаю. Символ двуединства красоты и ужаса бытия. Никто не выходит оттуда живым.
— О’кей. Но я все равно не понимаю, как он убедил вас в его существовании. Мира-лабиринта то есть.
— По его указанию мы совершили ритуал, который должен был нас туда перенести. Некоторые аспекты ритуала обладали определенным… воздействием, наверное. В них присутствовал элемент внушения.
— Ритуал? Серьезно? Мне казалось, Арн-Сейлс считал ритуалы чепухой. Если не ошибаюсь, он писал об этом в «Полузримой двери».
— Да. Лоренс утверждал, что сам может попасть в мир-лабиринт без всяких ритуалов — ему достаточно изменить состояние своего ума, вернуться к детскому дорациональному мышлению, восприятию мира как чуда. Лоренс уверял, будто может делать это по собственному желанию. Неудивительно, что почти все мы — его ученики — ничего таким способом не добились, поэтому он создал ритуал, с помощью которого мы должны были попадать в лабиринт. Однако Лоренс много раз повторял, что это — уступка нашей неспособности.
— Ясно. Почти все?
— Что?
— Вы сказали, почти все его ученики не могли войти в лабиринт без ритуала. Это подразумевает, что кто-то мог.
Короткое молчание.
— Сильвия. Сильвия думала, что может попадать туда так же, как Лоренс. Возвращаясь к восприятию мира как чуда. Она была странная девушка, я же говорил. Поэтесса. Жила в собственных фантазиях. Кто знает, что ей там чудилось.
— А вы его когда-нибудь видели? Лабиринт?
Кеттерли задумался.
— По большей части я ощущал то, что можно назвать намеками. Это было чувство, будто я стою в очень большом пространстве — не только широком, но и бесконечно высоком. И, как ни трудно это признать, да, однажды я его видел. В смысле, один раз думал, что увидел.
— И как это выглядело?
— Как описывал Лоренс. Бесконечная череда классических помещений.
— И что, по-вашему, это значило? — спросил я.
— Ничего. Думаю, это не значило ровным счетом ничего.
Недолгое