Так что, лавируя между стволами, я мысленно поблагодарил Большого Бена, а Хосита делал это вслух и довольно долго.
…Аллан честно отрабатывал полученный задаток и протащил задыхающихся работодателей сначала по рвущим подошвы Белым скалам, потом кругами через шипастый кустарник, и лишь потом выволок насладившихся экзотикой приезжих на более или менее проходимые охотничьи тропы. Я понимал, что мы с Хоситой могли быть тихими и незаметными лишь для любопытных чужаков, но Аллан всю жизнь провел в зарослях – да и закончил ее там же – и временами охотник фыркал в ворот потрепанной куртки, косясь на шевелящиеся ветки, а глаза его щурились до обидного весело. Плевать было Аллану на нас – он давал обещанный товар за выплаченные деньги, а остальное его не интересовало. Среди охотников случались самоубийства, да и убийства тоже, но никто из идущих по зарослям не уходил в Сальферну. И если кто-то и нашел бы общий язык с Хоситой – так это охотник Аллан.
– Чего ты хочешь от жизни, Хо?…
Да, они бы поняли друг друга.
За пять дней дороги я многое узнал. Я узнал, что толстого остроумца зовут Ян, и его очень недолюбливает желчный Макс и медлительный обладатель перебитого носа со странной фамилией Гартвич. Я узнал, что Макс шел в Сальферну за жизнью, подтверждая это желтизной изможденного лица, жирный Ян – за чем-то, что он называл научным объяснением, а успевающий всюду ленивый Гартвич… Гартвич шел за компанию.
Из всех них я понимал лишь Макса, потому что в Сальферну не ходят за компанию, и тем более за научным объяснением, туда идут за мамой, или когда больше идти некуда, или так, как ходят або – навсегда. Только шаман не имеет права уйти в Сальферну, и его просьбы никогда не исполнятся, и этим шаман расплачивается за знание.
Я чувствовал, что и за мое знание придется платить, ибо сердце знающего в доме плача, а сердце глупца в доме веселья; так писал мой отец в дневнике, забытом на столе, или оставленном специально, дневнике, где жизнь шла вперемешку с вымыслом, сказкой, и жизнь была причудливей вымысла, а сказка страшнее жизни, и в конце я стал понимать, как мой смеющийся отец смог уйти с або в Сальферну.
И еще я узнал, что с охотником Алланом здороваются кивком, потому что проводнику, купленному за деньги, руки не подают.
Я много узнал за пять дней дороги, и впервые в жизни начал бояться або, я шел в Сальферну тайно от них, и не знал, о чем буду просить. Вначале я вроде бы знал, но за эти дни набежало слишком много разного, и когда шестым утром мы наконец вышли из зарослей – я неожиданно для самого себя поблагодарил Хоситу за его молчание. Он поклонился, почему-то сжав пальцы в маленькие кулачки и согнув руки перед собой. Бедный одинокий Брамапутра, как ты там?… Впрочем, это не имело никакого значения, потому что мы уже пришли.
Мы с Хо видели радужный круг Сальферны, и темнеющий вход за ним, точно такой, как описывал его сумасшедший старик Якоб, когда дети собирались в его хибаре холодным вечером; видели охотника Аллана, остановившегося на самой границе круга входящих, и махнувшего оттуда замершим спутникам; и видели маленький блестящий пистолет в руке Гартвича, направленный на беззаботно поворачивающегося Аллана.
Звериного инстинкта охотника хватило на два судорожных выстрела, после чего Аллан тихо лег на размытой черте круга, головой ко входу. Серый Гартвич подхватил обмякшего Макса и поволок в Сальферну, не обращая внимания на спотыкающегося позади толстяка Яна, придерживающего на бегу перебитое левое предплечье. Они остановилось у входа, не решаясь броситься внутрь, и этой заминки хватило для многого.
За спиной колеблющихся чужих медленно поднялся убитый охотник Аллан. Он был весь в какой-то бурой грязи – лицо, руки, одежда – а в нижней части живота чернело пулевое отверстие, из которого уже переставала сочиться кровь. Вязкая, запекающаяся кровь. Аллан смотрел прямо перед собой, и это не напоминало взгляд живого человека – так смотрели мертвецы из бесконечных историй хихикающего старого Якоба, и я закричал, но непривычно жесткая рука Хоситы зажала мне рот, и не дала кинуться туда, где мертвый стоял за спинами живых.
Впрочем, не совсем живых, или совсем неживых, потому что деревянным движением Аллан вставил нож в широкую спину Гартвича, и тот охнул и выпустил сбитого последним выстрелом Макса, и Гартвич пополз по земле, но недалеко, и затих, под визг трясущегося Яна, хватающегося за сердце, оплывающего рядом с неподвижным Максом…
Гартвич встал. Он стоял спиной ко мне, и из этой спины нелепо торчала рукоятка охотничьего ножа; он стоял перед Алланом, и с него стекала невесть откуда взявшаяся грязная вода, она текла с волос, каплями скатывалась по рукавам, повисая на сведенных агонией пальцах…
Нет, Гартвич не был ранен. Он был убит.
В тот момент, когда существо, еще пять минут назад носившее странное имя Гартвич, вцепилось в горло существу, еще пять минут назад носившему имя Аллан, и оба мертвеца застыли, шатаясь в неустойчивом равновесии – на непокрытую голову охотника опустилась неуверенная, но настойчивая рука вставшего застреленного Макса. Два покойника рвали на части третьего, и толстый Ян начинал ворочаться, силясь привстать на подламывающихся локтях…
Мой ужас прорвался наружу. Это к моему горлу тянулись синеющие пальцы, это в меня хотели они войти, смертным холодом прорастая сквозь тело, становясь мной, растворяясь и растворяя… Что ж ты наделала, Сальферна?!
– Идем, хозяин. Они хотели – они получили. Ты тоже хотел. Идем.
Я не пошел. Я стоял на границе круга, не видя копошащихся медленных мертвецов, начиная понимать Сальферну, место, где исполняются просьбы, начиная понимать маму над трехглазым затихшим отцом, так и не выпустившим из рук тусклый ствол, брата, неподвижно спокойного в извивающихся стыдных тенях, начиная понимать; и я молил Бога, какой он там ни есть, чтобы вышедшие из кустарника або поскорее убили меня, молил не дать мне упасть в круг, не дать приобщиться к ушедшим; и первое копье, тонкая зазубренная нить, не дотянулась до моей груди, прерванная в воздухе крылом Брамапутры, или рукой Хоситы, и мне было трудно додумать эту мысль до конца.
…Або суетились, размахивали копьями, крича свистящими высокими голосами, а в их гуще плясал бойцовый петух Хосита, приседающий, хлопающий страшными крыльями, с красным гребнем волос в запекшейся крови, и шаман надрывался, пытаясь перекричать шум и вопли, и все-таки перекричал, и оставшиеся в живых побежали, бросая оружие, оглядываясь, повинуясь приказу шамана, никогда не уходящего в Сальферну и знающего то, что теперь знал и я.
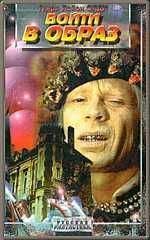
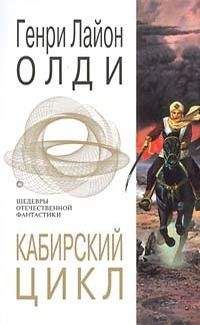

![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
