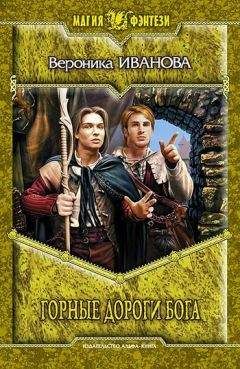– Мы проверим, – наконец решил сереброзвенник и велел: – Принесите больше света!
Пара громил Рофи отправилась выполнять приказ, а глава Наблюдательного дома Руаннаса наклонился к землевладельцу, уже совсем скукожившемуся, и пообещал:
– Если это правда, конец и старому порядку, и тебе.
Я не стал дожидаться вскрытия древесного ствола. И потому, что не сомневался в правоте Эби, и потому, что не хотел видеть, как по лицу обреченного на смерть человека проносятся те же чувства, которые мне довелось наблюдать, казалось бы, совсем недавно, а если задуматься, то совсем в другой жизни.
А задуматься и правда хотелось. Например, над тем, что законы Дарствия щедро дозволяют Цепям вершить человеческие судьбы, но при этом насильственную смерть, учиненную без приказа и подобающего основания, карают жестоко и неумолимо. Можно не моргнув глазом вырезать целую семью и прочих домочадцев купца, преступившего правила, зато зарвавшегося рабовладельца заставят заплатить за гибель раба собственной жизнью. В полном соответствии со всеми буквами закона. И если плохо одно, то почему тогда, несомненно, хорошо другое, если они налиты из одной и той же бочки?
У дверей спальни, наверное, должны были дежурить слуги, на случай какого-нибудь каприза хозяина, но, похоже, разбежались, когда начался шум. Ключ торчал в замке, и при должной сноровке пленник легко мог бы освободиться, но я удивлялся бездеятельности ровно до того мгновения, как увидел, на что этот самый пленник был похож.
Обычно говорят: живого места нет. Синяков было немного, царапин еще меньше, но припухлости на коже ясно говорили, что повреждений больше, чем кажется. Намного больше. Били умело, чтобы ни у одного случайного наблюдателя не возникло подозрений в причиненном насилии. И били так, что девушка, бессильно лежащая поперек широкой кровати, вряд ли была сейчас способна на что-то вроде побега. Даже собрав волю в кулак.
Я решил было, что в девичьем теле сейчас не обретается никакого сознания, но губы Лус, наполовину разбитые, наполовину искусанные, все-таки шевельнулись, сообщая мне, наверное, самую страшную тайну демона по имени Конран:
– Никогда не хотел быть женщиной. И теперь понимаю почему.
Где-то здесь…
Переливы шелка завораживали. Казалось, диковинная морская раковина раскрыла свои створки и расплескала перламутр по тончайшим нитям, переплетенным между собой не руками прилежных мастериц, не человеческой волей, а кем-то парящим высоко в небесах. Так высоко, что взглядом его лик не ухватить точно так же, как пальцами не удержать ткань, стекающую по коже быстрее воды.
– У вас отменный вкус, эрте.
Грезы, потревоженные голосом хозяина лавки, недовольно отодвинулись в сторону, освобождая сознание из сладостного плена. Тиррис вздохнула, выпрямилась и спрятала ладони, только что познавшие истинное наслаждение, в длинных рукавах.
После нежнейшего шелка полотно мантии, как уверяли поставщики кумирни, самое дорогое и лучшее на сотню миль окрест, показалось прибоженной чуть ли не циновкой, годной лишь на то, чтобы лежать под ногами. Казалось бы, давно уже пора было привыкнуть и смиренно похоронить все старые мечты и воспоминания, но не помогали ни изнуряющие молитвы, ни многодневное уединение, стоило хоть мимолетно скользнуть взглядом по пышному кружеву или искусной вышивке, вьющейся над подолом. А уж если дотронуться…
– Должно быть, ваши родители понимали толк в подобных вещах.
И их родители, и деды, и прадеды, мысленно добавила Тиррис.
Двадцать лет назад у девочки, первый крик который взлетел к высоким сводам хозяйской спальни замка Лаон, было все, что только можно пожелать: наследница блистательной семьи ни в чем не знала отказа. И даже жених – самый достойный и влиятельный в округе – ждал ее совершеннолетия уже тогда, когда невеста еще гукала в колыбели. Будущее казалось сияющим, как серебряные подносы, старательно начищенные прислугой, и возвышенным, как балкон главной башни, позволяющий рассмотреть почти все владения древнего рода, знатного чуть ли не как сам Дарохранитель. И возвышение состоялось, однако вовсе не так, как грезилось юной девице.
Поначалу она искренне принимала свою избранность, как дар божий. Как еще одно свидетельство исключительной судьбы. И даже наслаждалась переменами, происходящими в ее теле. До тех пор, пока Совет прибоженных не затребовал к себе дитя, отмеченное знаком служения небесам.
Правила содержания при кумирне были строги, но Тиррис, получившая новое безличное имя наравне еще с десятком заплаканных и испуганных подростков, не боялась трудностей. Она исправно выполняла все, что требовали наставники, пестуя свою веру, и до того вполне искреннюю, а теперь и вовсе отчаянную. Взрослела, сознательно отказываясь от всего, свойственного своим обычным сверстникам, и осуждающе смотрела на прибоженных, спешащих пережить все земные страсти еще до посвящения. Хранила душу и тело от греха, чтобы потом не раз пожалеть о собственной набожности…
Впрочем, в те дни все жертвы казались необходимыми. Дорогими, но стоящими того. Тиррис верила, что, когда ее возведут в сан и она явится перед миром во всем блеске новообретенного величия, забудутся слезы, голодные ночи, ледяной холод каменных плит и боль, пронизывающая коленопреклоненное тело. Что-то и в самом деле забылось, что-то вошло в привычку. Не случилось только главного: торжества.
Ее отправили в кумирню на другой край света. По крайней мере, Тиррис так показалось. Месяцы унылой дороги в скрипящей коляске вместе с попутчиками, меняющимися каждые несколько дней. Ночлеги в гостевых домах, лишь немногим более уютных, чем с такой радостью покинутая келья. Единственное, что можно было назвать величественным в этом долгом путешествии, так это одиночество. В первое время прибоженная и сама не слишком желала с кем-то разговаривать, а потом, когда устала от молчания, выяснилось, что люди видят в ней не собеседника, а отдушину, в которую можно выговориться, или грудь, на которой можно всплакнуть. И конечно, всепрощающую душу, неустанно внимающую каждому слову твоей молитвы.
Это было невыносимо настолько, что, едва переступив порог назначенной для служения кумирни, Тиррис приняла обет молчания. Вечный. Прибоженную, отказавшуюся от дара речи, сочли новоявленной святой, и городок сразу начал задирать нос перед соседями, не имеющими у себя подобной драгоценности. Но почтение теперь мало волновало Тиррис. Главное, ей перестали изливать душу, потому что намного безобиднее было припасть к стопам изваяния и поделиться с ним всем наболевшим, чем смотреть на строго сжатые губы, уголки которых, кажется, вот-вот либо опустятся еще ниже, отказывая грешнику в прощении, либо взлетят вверх, смеясь над ничтожностью переживаний, принесенных к божьему престолу.