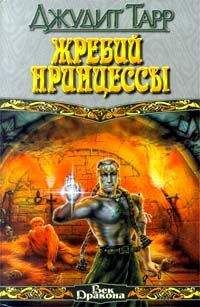Джоанна присела возле него на корточки, ее лицо было смутным пятном, лишенным всякой красоты, волосы выбились из-под капюшона. Она была абсолютно человеком, абсолютно смертной.
— Я не могу уснуть, — сказала она. Грубый, немузыкальный, чертовски человеческий голос. — Я разбудила вас?
— Нет.
— Хорошо. — Она опустилась на пятки. Суставы ее хрустнули; она засмеялась — смех был похож на кашель — и пристроилась на краешке его матраца. — Наверное, я кажусь вам ужасно неуклюжей?
— Нет, — ответил он. Это была правда. Она не была неуклюжей, она внушала нежность. Словно жеребенок или щенок волкодава.
— Я не изящная дама. Я жирная франкская корова.
Айдан приподнялся на локте.
— Кто так говорит?
— Я говорю. — Она отбросила волосы с лица. — Это действительно так. Тибо унаследовал всю красоту. Я же родилась похожей на норманнских пиратов. Я должна была родиться мужчиной.
— Я все же рад, что вы не мужчина.
— Сегодня ночью вам не нужно быть вежливым. Я могу выдержать правду.
— Это правда. — Он помолчал. — Меня не тянет к мужчинам. И даже к красивым мальчикам.
— Я надеюсь, что нет.
Джоанна не могла видеть в темноте выражение его лица, но для него темнота была преградой не большей, нежели легкие сумерки. И то, что он видел, заставило его притянуть ее к себе. Он сделал это словно бы помимо своей воли.
И так же, помимо своей воли, она подчинилась ему, словно ища прибежища. Она была теплой и большой, почти столь же высокой, как он, и никак не меньше него в обхвате. В Райане сказали бы, что у этой женщины чудесная фигура.
Они лежали обнявшись, словно дети, наслаждаясь просто ощущением присутствия, теплом тела другого. Джоанна гладила бороду Айдана, играла с ней, испытывая удовольствие от прикосновения волос к ладони. В душе Айдана это удовольствие порождало трепет, даже больший, чем дрожь от прикосновения ее руки к его щеке.
Она засмеялась, пряча лицо у него на плече:
— Ты мурлычешь!
— Да. — Он был удивлен. — Я не знал, что умею это.
Он считал, что не умеет. Она устроилась поудобнее, мягкие округлости ее тела словно заполняли предназначавшиеся для них места на его теле. Это было изумительно, насколько совершенно мужчина и женщина были созданы друг для друга.
Но не он для нее. Айдан прекрасно знал это. В глазах Бога и человека она принадлежала Ранульфу.
Сейчас, под покровом ночи, было так трудно удержаться. Джоанна изумилась бы, узнав, как близок он был к полной невинности; как редко он желал женщину настолько, чтобы сделать то, что делают мужчины и женщины. Принадлежавшие к его народу воспламенялись медленно. Но стоило им зажечься…
— Мы должны… — попытался он возразить. — Мы не должны…
Ее глаза, большие серо-голубые глаза смертной женщины, впитали его слова, опустошив его мысли. Айдан и Джоанна уже не лежали, а стояли, обнявшись. Он не помнил, как они встали.
Джоанна поцеловала его в щеку, туда, где прежде лежала ее ладонь, и поцелуй был целомудренным, словно сестринский. Он безмолвно смотрел на нее, а она повернулась и вошла в шатер. Мудрая женщина.
Более мудрая, чем он. Он не смог бы стоять в ее шатре во весь рост. Она могла, но едва-едва.
Ее служанки в шатре не было. Случайность? Заранее продуманный план? Айдан сомневался, что Джоанна знает ответ.
— Это безумие, — прошептал он.
Она кивнула. Плащ ее упал с плеч, она осталась в одной сорочке.
Чудесная женская фигура. Не девичья, уже не девичья. Зрелое тело; оно потеряло твердость, взамен обретя привлекательность. Ни одна женщина из его расы не могла быть такой — в полном расцвете преходящего лета, хранящего свежесть весны и омраченного тенью от тени грядущей зимы.
Она дрожала. Айдан привлек ее к себе, чтобы согреть. Сердце ее неистово колотилось. Она отшатнулась; она прижалась к нему.
— Здесь, — прошептала она, — здесь, проклятье… Мы должны… прекрати… Обними меня!
Он был ее рыцарем. Он не мог сделать ничего — только повиноваться ей.
— Мне все равно, — шептала она, словно в горячке. — Мне все равно. — Она откинула голову и посмотрела в лицо Айдану. — Ты презираешь меня?
— Я… — Он с трудом сглотнул комок в горле. — Я думаю, что люблю тебя.
Она застыла. Но не ее язык.
— Не смейся надо мной. Пощади меня хотя бы в этом.
— Я не лгу. Никогда. И не шучу. По крайней мере, когда люблю.
— Но ты не можешь… Я даже не привлекательна!
— Это имеет значение?
— Ты, — сказала она, подавляя дрожь в голосе, — ты красив так, как не бывают красивы смертные. А я…
— Я просто таков, каким меня сотворили. А ты есть ты и никто более, и я полюбил тебя в тот же миг, как впервые увидел тебя, сердитую и взъерошенную, словно раненая орлица. Госпожа моя, твоя душа — это белое сияние, и моя перед нею — тусклый колеблющийся огонек.
— Ты мог бы приманить птицу с дерева. — Голос ее дразнил и ласкал его. Ее пальцы нащупали узел его пояса. Она хотела видеть. Просто видеть. На самом деле.
И было на что посмотреть. Он знал это; и никогда не стыдился этого. Стыдливость — удел монахов. Он был рожден в королевской семье, и он не был смертным.
Теперь, когда она могла видеть все его тело, он был еще более чужим. И более красивым. В свете лампы его бледность была подобна сиянию, казалось, такая белизна не может принадлежать плоти живого существа, а лишь камню, оживленному чарами: лунному камню, алебастру, мрамору. Грубая человеческая кожа не бывает столь белой и столь гладкой. Эта плоть — словно атлас поверх стали, более гладкая, чем у любого мужчины, но отнюдь не детская. О, нет. Это не ребенок.
Он не был мужчиной из смертного племени, но был достаточно мужественен. И это не ужасало, вопреки всем легендам об ифритах. Он был скроен по человеческим меркам; и возбуждение делало его более похожим на человека. Джоанна смотрела, словно зачарованная. Ранульф никогда не давал ей времени посмотреть. Посмотреть, увидеть, попытаться понять эту загадку, эту вторую половину рода человеческого.
Она зажмурилась. Щеки ее пылали. Господи, что же она делает?
И он ей позволяет.
— Не просто позволяю, — возразил Айдан мягким, восхитительно глубоким голосом. — Желаю.
Горечь наполнила сердце Джоанны.
— Желаете. Какую-нибудь женщину, да? Любую самку человеческого рода.
— Нет.
Она открыла глаза.
— Нет, — повторил Айдан. — Я не желал женщину дольше, чем ты живешь на свете.
Джоанна скривила губы.
Он не был Ранульфом. Он не отступил перед ее презрением.
— Верь мне или не верь. Это ничего не меняет.