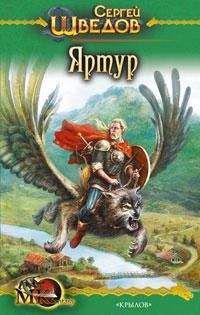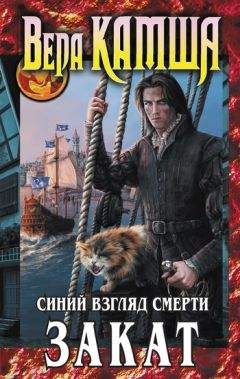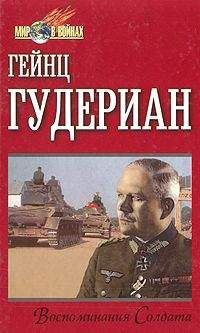Недобрые, непохожие на жеманных предшественников цветы выпали из разжавшихся пальцев. Барон со сдержанным достоинством поклонился, баронесса прошла вперед. Она не просто не пыталась привлечь внимание, она ничего и никого не замечала... Божественная Марианна. Звезда Олларии. Какое-то время она светила Марселю, потом перешла к Ли и наконец влюбила в себя Робера. Или влюбилась сама?
Барон надел шляпу, торжественно колыхнулись подвитые черные перья, но даже в шляпе он был ниже жены. Зачем Ли понадобилась эта женщина? Зрелость и темные волосы его никогда не влекли...
Снова всхлипы и заломленные руки. Капуль-Гизайли скрылись за страдающими Карлионами, решившими вновь встать среди баронов. Выкинуть бы, но на Мытную пускали всех. Горожане пришли проводить свою королеву, а не любоваться на балаган, хотя изгнание Краклов и Карлионов их бы только порадовало. Блюдолизов и ничтожеств не любят нигде и никогда, но они живут и нелюбимыми, раздери их кошки! Живут и возлагают цветочки на чужие гробы.
2
На столе фок Варзов не валялось ни яблочных огрызков, ни грифелей, на нем не было даже карты. Только курьерский футляр, пара стаканов и серебряная морисская фляга, немало повидавшая за годы маршальских странствий. Сам маршал в расстегнутом — второй день стояла чудовищная духота — мундире откинулся на спинку стула, исподлобья глядя на спехом выдернутого из седла Жермона. Значит, пока он две недели играл в догонялки с дриксами, что-то случилось. Доннервальд или хуже? Но, судя по лагерным физиономиям, никаких разгромов...
— Садись, — разлепил губы маршал Запада и глубоко вздохнул. Очень глубоко. На обратном пути надо натравить на старика Лизоба, пусть поищет что-нибудь от сердца. — О своих похождениях доложишь позже... Толку вышло мало, но и беды особой нет. Звал не за этим. Прибыл гонец от Рудольфа.
Значит, не Доннервальд. Конечно, не Доннервальд, сидеть с таким лицом из-за крепости, которую, по сути, уже списали, Вольфганг не станет.
— Кто убит?
— Ясновидящим стал, не иначе! — Фок Варзов с ненавистью отпихнул украшенный регентским «Победителем» футляр. Выходит, Катарина родила и придется вечером ей писать, только вряд ли письмо выйдет путное.
— Свои бумаги я забрал. — Командующий смотрел на черно-белую коробку, как смотрят в костер. — Что осталось — твое. От Рудольфа, Арлетты и теперешнего Эпинэ... По-хорошему тебе надо сейчас в Ариго, но хорошего не предвидится, да и поздно уже. Ты так сестре и не написал?
— Сегодня обязательно...
— Уже нет. Катарину убили. Глупо и подловато, как и все, что делают эти субчики. Слава Создателю, ребенка спасли. Мальчишка... Назвали Октавием. Хорошо, Рудольф Манриков загодя в бараний рог свернул, а то пошла бы теперь свистопляска. Дошлый законник не чихнет, брякнет, что Фердинанд отрекся только за себя и за Карла... Леворукий, как же мерзко!
— Ее убили из-за этого? Чтобы не было второго наследника? То есть... сына, за которого не отрекались?
— Если бы! Прости, вырвалось...
— Мой маршал. — Жермон сказал слишком тихо, а Вольфганг стал глуховат, пришлось повторить громче. — Мой маршал, могу я прочесть письма?
— Прочтешь у себя. Захочешь поговорить — приходи, хоть бы и ночью. Нет — я без тебя денек обойдусь.
Журчит золотистая струйка, льется в стакан. Катарине можно не писать.
— Будем помнить, Жермон. Будем помнить их всех...
— Будем помнить. — Когда он вбил себе в башку, что умирает, королева вдруг стала сестрой, потом было не до родственников, да и это ее... регентство. — Я думал, это не с ней...
С кем-то другим, более важным для них обоих. Даже не важным — тем, кого знаешь как себя, с кем говорил, пил, умирал и выживал. Фок Варзов Катарине никто, а краше в гроб кладут, это братец будто чужой.
— Арлетта все расписала, лучше не скажешь... Тут другое вылезло. Все, парень, кончай гадать, с чего на тебя отец взъелся. Не взъедался он. Не было ничего такого, слышишь?! Все подделка, кроме... Кроме твоих орденов и его смерти. Бедолага ждал тебя до последней минуты, а до нас ни до кого не дошло! Бумагам верили, себе — нет. До того докатились, что, приглядевшись к тебе, решили, что Пьер-Луи свихнулся!
— Я...
— Леворукий бы побрал эту геренцию и нашу тупость! — Маршал схватился за стакан, и генерал его не остановил. — Куда не надо — лезем, а тут сожрали, не подавились!
«Кончай гадать...» Хорошо, он кончит, он уже кончил. Странно только, что нет ни обиды, ни радости, ни, наверное, ярости, а ведь должны быть! Должен же он возненавидеть себя за то, что убрался в Торку, не попытавшись объясниться. И тех, кто подделывал отцовские письма, тоже надо ненавидеть, а ему просто хочется понять... Даже не кто, зачем? Если Ойген прав и какие-то ублюдки по всему Талигу охотятся на старших в роду, то... Джастина убила не семья!
— Надо рассказать Райнштайнеру, — твердо сказал Ариго. — Я угадал с Бруно, он — с заговором.
— Нечего ему рассказывать... — Фок Варзов вытащил платок и отер лоб. — Хотя вы же друзья... Друг тебе сейчас точно пригодится, а Райнштайнер еще и пить здоров. Я-то свое почти выпил.
— Дело не в дружбе. — Умерла сестра, а он не написал. Умирал отец, а он задирал теньентов и капитанов, двоих даже убил. Это было просто, проще, чем появиться в Гайярэ. Теперь брату и сыну, даже самому негодящему, впору мчаться в церковь и жрать себя поедом, а он думает о Юстиниане Придде... Жуть.
— Мой маршал, Ойген считает, что налицо заговор против первых семейств Талига. Началось с Ариго, кончилось Приддами. То есть еще не кончилось.
— Все проще и... гадостней. Ты вечно писал Арлетте и никогда — матери. Был в обиде?
— Нет, просто... — А что, собственно, просто? Они даже не «не ладили». Они жили в одном замке, пока он не уехал в Лаик. Сын и мать... Она была красива, грустна и занята своими книгами и младшими детьми, а он никогда не любил читать, и ему было скучно с братьями. Иорам все время ревел, Ги дулся. Убраться из такого дома стало радостью. Назад унара, а позже гвардейца не тянуло, пока Гайярэ не стал запретным. Тогда — да, тогда он чувствовал себя обделенным, но писать матери и братьям не хотелось тем более.
— Что «просто»? — Вольфганг ждал ответа, тяжело дыша. Он все хуже переносил жару. Если б не разговор о принятии командования, Ариго спросил бы старика о здоровье, а так пришлось мямлить, пытаясь высказать то, чего самому не понять и что держат при себе.
— Графиня Савиньяк волнуется за сыновей, и потом... она всегда ждет писем из Торки. Даже после восстания Борна. Мне есть о чем писать, а она всегда отвечает.
Это были забавные письма с рассказами про соседей и странными историями про птиц и зверей, иногда даже с рисунками. Графиня ни разу не упомянула об отце и Гайярэ. Про маршала Арно она тоже не написала ни слова, только Жермон чувствовал: она помнит.