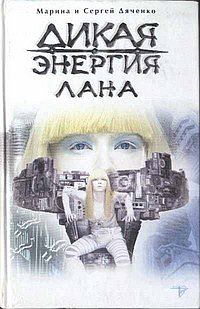На этот раз я молчу — очень долго. Он прав. Но мне трудно свыкнуться с этой правотой.
— Расскажи мне о Заводе, — прошу наконец. — Ты должен знать больше, чем другие.
— Почему? — Он потирает бороду. — Почему бедный старый волк знает больше, чем Царь-мать?
— Потому что… ты же знаешь, что я… Почему бы тебе просто не рассказать? Без этих твоих… увиливаний?
Он ухмыляется:
— Я знаю не так много. Больше догадываюсь. Слушаю слухи. Сплетаю сплетни. А что из этого правда…
— Расскажи.
Он прикрывает круглые голубые глазищи:
— Спрашивай.
— Можно ли разрушить Завод? — выпаливаю я.
— Можно, — отзывается он, не открывая глаз, подставив лицо солнцу. — Однажды он уже был разрушен. Много-много лет назад.
— Кем?
— Не знаю… Догадываюсь. Этот Завод всегда производил энергию. Но раньше — тогда — он черпал ее из… назовем это стихиями. У него и сейчас сохранились шпили-громоотводы… теперь они кривые, обугленные. А раньше, я думаю, они сверкали, как молния… приманивали небесный разряд. Молния… Ветер… Дождь… Силы земли… Силы воды… Все это Завод брал и перерабатывал. Я не знаю, кто были его хозяева и куда они девали ту энергию… Колоссальную, чудовищную, непредставимую энергию… Но однажды им сделалось мало. И они перевели Завод на полную мощность — на слишком, слишком полную. И он стал высасывать из стихий все, до чего мог дотянуться. Не оставил горам ни капли дождя… ни дуновения ветра… я так думаю. И тогда стихии… я не знаю, Лана, но думаю, что они взбунтовались. Иначе ничем не объяснить, что Завод — такая громада! — был почти разрушен… Вернее, не так: он был изменен. Он переродился.
Головач замолкает. Смотрит на солнце, не закрывая глаз. Не щурясь.
— Переродился? — тихо спрашиваю я.
— Да. Пришли другие… существа. Вряд ли они были людьми. Потому что решение, которое они предложили Заводу, было совершенно нечеловеческим: Завод стал добывать энергию из людей. Из тех, кто любит жить. Кто любит жизнь. Кто силен. Использовать их, как дрова… И турбины Завода завертелись опять. Если, конечно, у него есть турбины. Построили канатную дорогу. Ты видела, какие там мощные блоки? Думаю, вся энергия Завода уходит на то, чтобы эта дорога работала. Чтобы вовремя поставлялось сырье. Это беспрерывный цикл. Завод добывает топливо. Топливо не дает ему остановиться. И так без конца.
Головач говорит ровно, спокойно, будто повторяет давным-давно известное. У меня пересыхает в горле.
— В городе, — через силу выталкиваю слова, — работает целая система. В сговоре с энергополицией… Целая служба выслеживает людей, которые не нуждаются в подзарядках. Которые… сами несут энергию. Их отбирают для Завода.
— Конечно.
— Послушай… — Я перевожу дыхание. — Когда ты говорил о новом будущем для трех родов… о развилке… что ты имел в виду?
— Будущее никогда не открывается полностью, — говорит он с сожалением. — Царь-мать видела, как ты уводишь молодежь на Завод, чтобы разрушить его. Битва проиграна. Все вы гибнете. Слуги Завода приходят в поселок и в наказание забирают оставшихся мужчин, женщин, детей — в каждом из них полно энергии, это лакомая дичь для заводских печей… Вот что она видела. Вот почему она так хотела тебя погубить.
— А ты? — спрашиваю я хрипло. — Что видел ты?
Головач улыбается:
— Я видел и второй путь. Ты уводишь нашу молодежь на Завод… и разрушаешь его. Останавливаешь навсегда.
— Это возможно?!
Головач пожимает плечами:
— Будущее подчас играет с нами, как волчонок с мышью. Я ничего не могу сказать наверняка. Ты теперь Царь-мать — ты и решай.
Я Царь-мать. И я что-то делаю не так. В глазах Ярого растет напряжение. И я не знаю, как похитрее задать вопрос, как выяснить все-таки, где я ошиблась.
— Младший Смереки добыл оленя, — говорит Ярый как бы ненароком. — А старший сын Бондаря добыл рысь. Ему давно пора.
— Да? — спрашиваю я с подчеркнутым удивлением. Как будто все, что говорит мне Ярый, я и без того знаю. Держу в уме — до поры. Вот только какой поры?
— Но сын Смереки добыл матерого оленя! Три дня назад — ты видела, как он притащил его в поселок! Рога волочились по земле! Ему шестнадцатая весна, а он уже добыл — сам — такого зверя! Неужели он недостоин имени?!
Я еле удерживаюсь, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Ну конечно!
— А ты считаешь, он достоин? — спрашиваю сурово.
Ярый тушуется:
— А разве нет? Если она считала, что достоин, то почему же…
Он осекается. Я отвожу взгляд: Ярый уже не в первый раз вспоминает при мне прежнюю Царь-мать. Мне очень неловко от этих его оговорок: я злюсь, чувствуя себя недостойной. И еще ощущаю вину.
— Значит, сын Смереки… — смотрю в сторону. — Сын Бондаря… Еще кто-то?
— Нет, — сухо говорит Ярый. — Этой весной — всего двое.
На обряд имяположения — инициации — собираются, как обычно, все три рода. Сын Смереки — круглощекий красивый парень — выходит наперед, ни капли не тушуясь.
— Ты уже придумала ему имя? — спрашивает Ярый.
— Я?!
— А кто же? Ты ведь Царь-мать!
— Ну да, — говорю как могу уверенно. — Я дам ему имя… только не сейчас.
— Ну конечно же — после обряда!
В глазах Ярого нетерпение. Все смотрят на меня и чего-то ждут.
— Начинайте обряд, — говорю я, просто чтобы что-то сказать. И — о счастье! — угадываю. Дальше мне ничего не надо делать — только смотреть.
На мальчишку наскакивают сразу трое здоровых мужчин. Он отбивается, свирепо сверкая зубами. Его валят на землю и лупят довольно жестоко, приговаривая:
— Волк! Волк!
— Волк! — в одно горло выкрикивают все три рода.
Наперед выходит, усмехаясь, Головач, втыкает в землю знакомый мне нож — лезвием кверху. Парень, в три шага разбежавшись, прыгает — и переворачивается в воздухе над ножом, обхватив руками колени. Приземляется на ноги и тут же выпрямляется.
— Волк!
Его поздравляют. Хлопают по плечам. На голову надевают венок, а сзади за пояс цепляют волчий хвост. Парень становится на четвереньки и, рыча и скаля зубы, по-волчьи идет ко мне.
— Имя, — вполголоса говорит Головач за моим плечом.
А я так засмотрелась на инициацию, что забыла придумать ему имя!
— Р-р-р! — Парень сверкает глазами. Он вошел в роль: сейчас он волк, и я едва удерживаюсь, чтобы не отступить. В толпе смолкают разговоры и смех — все смотрят на меня, боятся пропустить момент, когда назову человека-волка его именем, настоящим, с которым ему жить всю жизнь…
— Держись, — говорю я неожиданно для себя. И повторяю громче, для всей толпы: — Держись! Его зовут Держись!