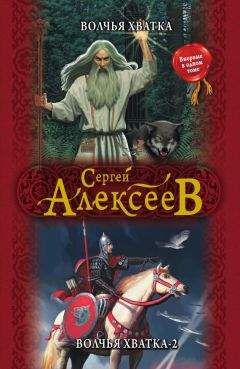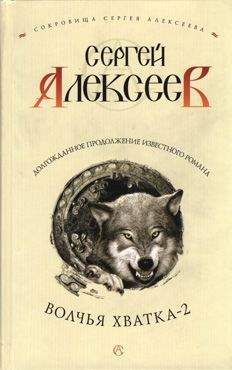Но когда боролся здесь сам, все оставалось в тайне даже от сына.
До глубокой ночи Ражный рыхлил ристалище, выскребая, выбирая из него камешки, лесной сор, жёлуди и старые корневища. Готовил круглый, упругий борцовский ковёр, площадью в тридцать шесть квадратных сажен. С момента, как он дотронулся до этой земли, пошёл особый отсчёт времени: теперь он всецело принадлежал поединку, не мог ни на минуту оторваться, уйти куда-то и был готов в любой миг отвести какую-либо угрозу схватке, не допустить срыва, устранить из Урочища кого бы то ни было. Вероятно, кому-то и когда-то удавалось все-таки тайком, издалека подсмотреть за предками Ражного, среди ночи в глухом лесу возделывающими пашню. И ничего, кроме недоумения и страха, эта потаённая работа не вызывала, отсюда и брала начало колдовская слава…
А что ещё мог подумать оглашённый — несведущий и любопытный человек?
После смерти отца в роще не было состязаний, поскольку Вячеслав не вступил в совершеннолетие, а значит, и в права наследства вотчины. Ристалище, как всякая отдохнувшая земля, могло быть особенно плодоносным, и на это обстоятельство более всего полагался Ражный, и сейчас, обласкивая свою ниву, он, как дерево, тянул из неё силу и сок энергии. Но этого было слишком мало, чтобы восстановиться после охоты на матёрого; обычно вотчинники, возделывая борцовский круг, получали от него некий десерт, после того, как основательно насытились, добавляли последние штрихи упорства и воли: земля впитывала и хранила силу, оставленную здесь поединщиками…
Он же был голоден и страдал от волчьего аппетита…
Перед рассветом, не завершив своего земледельческого труда как бы хотелось, как учил отец, он установил столб солнечных часов и почувствовал, что может внезапно сломаться и заснуть прямо на ристалище, и тогда бы земля отняла даже то, что дала. Убрав инструмент, Ражный взял волчью шкуру и ушёл под дуб Сновидений. Если Колеватый раскрыл тайну деревьев Урочища, то непременно хоть пару часов, но поспал здесь и видел вещий сон, растолковав который можно узнать исход поединка. В это верил каждый засадник, а хозяин Урочища норовил хоть на часик вздремнуть под вещим древом…
Прежде чем лечь самому, вотчинник обследовал всю северную сторону подножия дуба, в основном наощупь, но явных следов поединщика не обнаружил, поскольку земля оказалась выкатанной кабанами, устроившими тут лёжку.
Может, во сне увидел себя победителем и потому презрел законы, протопал по ристалищу? Или вообще не искал этого места, будучи уверенным в своих силах?
Так и не разобравшись, он расстелил шкуру мездрой кверху, затем достал фляжку с волчьей кровью, разделся и стал натираться.
Когда его предки ходили на поединки по чужим вотчинным рощам, то вбивали в Поклонный дуб медвежьи клыки.
Ражный вёл свой род от охотников.
Наливая кровь в ладонь, он старался не обронить ни одной капли и так же бережно втирал её в плечи, руки, грудь, ноги, оставляя чистыми лицо, голову, пятна в области сердца, солнечного сплетения и зарубцевавшейся раны на боку, где отсутствовали ребра. Серая в предутренних сумерках жидкость впитывалась почти сразу, и вместе с ней входила в его тело тончайшая сакральная энергия, существующая только в крови и нигде больше. Она несла в себе огромную по объёму информацию, в том числе способную изменять генетический код. Человеческая и звериная кровь были несовместимы, и потому организм забирал из неё лишь то, чего недоставало — волчью ярость выносливость и отвагу, — но во время переливания от человека человеку происходили непредсказуемые, стихийные изменения, и потому, когда в полевом госпитале Ражн ому попытались влить консервированную кровь, неведомо у кого взятую, он встал с койки и ушёл в свою бригаду.
Натеревшись, он лёг на шкуру, прижал к ней позвоночник, нашёл место у бёдер, чтобы положить на мездру ладони, сделал глубокий вздох и мгновенно уснул.
Через три недели ему уже не хватало молока Гейши; волчонок сосал один за четверых, вскоре отлучив родных щенят от материнских сосцов, поскольку рос быстрее, чем её дети. Точнее сказать, отлучили вдвоём с человеком, с которым свела его судьба, поскольку догадливый и сообразительный, он приносил зверёныша в кочегарку ко времени, когда вымя наливалось молоком. Родные полуторамесячные щенки уже лакали коровье молоко, ели творог, отварное мясо и бульон, однако же тянулись к вымени, а оно всегда было пустым. И гончая уже привыкла к чужаку, приноровилась к устрашающему запаху и, чувствуя в зверёныше природную, ярко отличимую от своих щенят силу жизни и мощь рода, с удовольствием питала его своим молоком, словно отдавая дань далёкому прошлому, своему изначальному корню, дикой, но прекрасной стихии. Скрытая до поры до времени страсть и стремление омолодить, взбодрить собачью кровь помимо воли возбудили в ней материнскую любовь к зверёнышу; и это чувство потрясающим образом уживалось с чувством иным — извечным страхом и ненавистью.
Самоуверенный и спесивый человек наивно полагал, что нет ничего в мире основательнее и вернее, чем собачья преданность; он с гордостью принимал эти знаки, когда пёс лизал ему руки, исполнял команды и был готов повиноваться. И невдомёк ему было, какие природные силы таятся в приручённом ласковом существе. Впрочем, и сами собаки того не.ведали, и когда блуждающие токи, вызванные средой, достигали от рода заложенные, но спящие инстинкты, происходил взрыв, от которого сотрясались все приобретённые за тысячелетия жизни с человеком привычки и обычаи.
Гейша кормила волчонка, и чем он больше высасывал из неё жизненного сока в виде молока, тем с большей страстью она вылизывала его, подчиняясь зову смутного чувства. Человеку, наблюдавшему сие действо, казалось, что происходит это от материнского желания вычистить, обеззаразить детёныша, обласкать его, возможно, утешить боли в животе, случающиеся от щенячьей жадности.
Собака же интуитивно совершала ритуал, говоря человеческим языком, производила коррекцию своей генетической природы, вбирала в себя волчий энергетический потенциал, который всасывался в её существо через самый нежный орган — язык.
Сытого волчонка тянуло на игры и ласки, и это особенно нравилось человеку, которого зверёныш просто терпел, как человек терпит временное неудобство, но вынужден жить, поскольку ничего больше не остаётся делать. Он считал вожаком стаи. того, кто спас его, и ни время, ни обстоятельства не могли поколебать его приверженности. А этот кормящий человек по недоразумению считал, что он — хозяин, всесильный господин, перед которым трепещет и пресмыкается настоящий волк — виляет хвостом, лижет руки и от грозного окрика забивается в угол и трясётся, поджавши тот же самый хвост. Человеку было приятно повелевать зверем, и часто без всякой на то причины он проявлял власть, сердился, топал ногами или вообще пинал, таким образом заставляя уступать дорогу в тесной каморке. Когда же находился в добром расположении духа, то принимался натаскивать, как собаку, — приказывал исполнять команды и нарочито строжился. Зверёныш терпеливо все это сносил, ибо от природы имел представление о стае и иерархии, существующее В нем на уровне волчьего закона. Кроме вожака, были и другие волки, ниже рангом, однако имеющие власть над ним, пока он ребёнок. И они обладали правом давать пищу и лишать её, оставлять в стае либо изгонять, казнить и миловать. И потому ничего не было зазорного, противоречащего волчьему естеству в том, что он покорялся старшему и сильному, доставлял приятные минуты самоутверждения. Тем более, зверёныш был сбит с толку образом человека, исполнявшего роль не только кормильца, но и таинственного существа, излучающего страх, поскольку смириться и привыкнуть к его пугающему, ненавистному запаху он не мог ни при каких обстоятельствах.