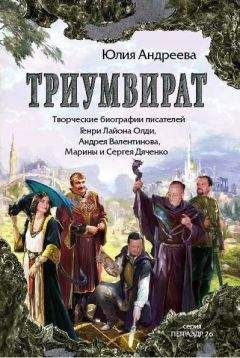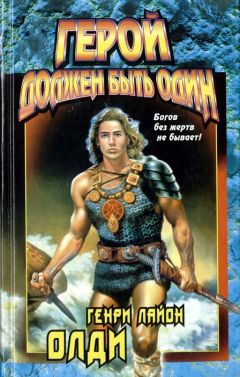— Вот оно, значит, как, — медленно проговорил аббат Ян, пытаясь прийти в себя от услышанного. — Бог тебе судья, Михалек, а я не возьмусь приговоры выносить. Жаль, что сразу не сказал… только чую, так, как ты сам себя казнишь, ни один палач тебя казнить уж не сможет.
Михал молча отвернулся.
— Ты едешь с нами? — Марта слегка коснулась вздрагивающего плеча брата.
— Еду. Сама знаешь — до сороковин времени чуть осталось, да и Мардула меня там дожидается. А у него — жена моя.
— Ну что ж, значит, так тому и быть, — кивнул Ян.
Через два часа, когда солнце уже позолотило верхушки вековых дубов Гаркловского леса, аббатский возок, двое верховых и собака покинули мельницу.
Они спешили в Шафляры, и мрачными были мысли каждого.
Может быть, это называется предчувствием?
…через две с половиной недели страшная весть пронеслась над Опольем, и долго еще чесали потом языки хлопы панских маетков и чорштынские бровары,[18] переговаривались меж собой работники Хохоловской гуты[19] и купцы Тыньца, а в корчме Рыжего Базлая и вовсе говорили о том без умолку с утра и до вечера.
Гайдуки Лентовского дотла спалили Топорову мельницу!
Сам старый князь явился во главе трех дюжин своих людей и взирал единственным глазом, налившимся дурной кровью, на бушующее пламя, в котором сыпал проклятиями умирающий мельник Стах и молчала безрукая мельничиха, так и не попытавшаяся выбежать наружу; да что там князь — провинциал[20] Гембицкий в фиолетовой мантии лично сопровождал гневного Лентовского, и беспощадная слава борца с ересью бежала впереди сурового доминиканца, заставляя вздрагивать во сне даже тех старух, кого соседка сдуру обозвала ведьмой при свидетелях!
Один сын мельника Стаха, седой коротышка, умер достойно, встретив гайдуков деревянными вилами — уже смертельно раненный, он прорвался через строй, зубами перехватив глотку того, кто пытался его связать, и ушел в лес.
Шептались гайдуки — волком ушел, проклятый, оттого и не достали пулей… такого серебром надо!..
Три дня и три ночи выла с того часа Гаркловская чащоба, где кончался в гнилой берлоге седой вовкулак; и двое монахов из сопровождения провинциала Гембицкого пропали неведомо куда — тот, что первым бросился с факелом к Топоровой мельнице, и тот, что смеялся громче прочих в ответ на проклятия горящего старика и кричал: «Туда тебе и дорога, колдун проклятый!»
Марта и ее спутники в это время проезжали Новотаргскую долину, приближаясь к Шафлярам; и по ночам женщину мучили кошмары.
Ей снился Седой, бесцельно бродящий по заброшенному погосту.
Я не помню, кем был — я знаю, кем стал.
Изредка снимая свой замшевый берет с петушиным пером, схваченным серебряной пряжкой, я напяливаю его на кулак и долго смотрю, представляя, что смотрю сам на себя.
Перо насмешливо качается, и серебро пряжки тускло блестит в свете месяца.
Я делаю так редко, очень редко, в те жгучие минуты, когда понимаю, что больше не могу быть собой — но и перестать быть я тоже не могу.
Люди зовут меня дьяволом.
Это правильно.
«Это правильно, — как заклинание, твержу я самому себе, берету, перу, пряжке, насмешнику-месяцу, — это правильно, правильно… правильно это!»
Они не верят.
С некоторых пор — не верят.
С несусветно раннего завтрака у старого погоста, с потных ладоней и дрожащего голоса, с никому не нужной орешины, пятнистым кружевом сбрасывающей кору, путая в свежих лентах смущение и наглость вперемешку; с картин, которые я невесть зачем вызывал в тумане, с мига, когда я юродствовал, подобно прыщавому юнцу, и не раздумывая пожертвовал драгоценной душой из моей заветной кубышки, лишь бы одна из Евиных дочерей осталась жить.
Да, потом я жалел. Я жалел, и не стыжусь этого; и жизнь моя дала трещину.
Не знал, что такое возможно.
Не знал…
Люди зовут меня Князем Тьмы.
Я не князь.
Я — крепостной Тьмы.
Я ем хлеб Преисподней в поте лица своего, я могу лишь надеяться, что когда-нибудь накоплю необходимый выкуп, и тогда меня отпустят на волю.
Я из последних сил бегу по раскаленной сковороде своей пропащей жизни, я смеюсь, чтоб не позволить копящемуся крику разорвать горло, я гашу полыхающий внутри пожар поленьями чужих душ, проданных душ, проклятых душ — когда-нибудь бушующий во мне адский огонь захлебнется обильным приношением или сожжет меня дотла!
В сущности, это одно и то же.
Для меня.
Я не помню, кем был; я знаю, кем стал.
Я умею только брать и копить.
Еще я умею смеяться.
Хотите смеяться так, как я, ваши милости?
Могу научить… вот, это совсем не больно и совсем не страшно: лезвием по вене, и чертите пером ваши закорючки — здесь, здесь, и еще вот здесь!.. хотите?!
Брать и копить, ваши милости, брать и копить!
Но эта женщина… о длинноногая воровочка моя, зачем тебе взбрело в голову научить Петушиное Перо отдавать?! Зачем мы встретились, зачем ты походя плеснула на мою сковороду, на светящийся от жара металл ледяной родниковой водой?! — нет, я не хочу трескаться, мне нельзя останавливаться, отвлекаться, нельзя, нельзя… Задумывалась ли ты, глупая, что когда один ворует — второй отдает! Да, не по своей воле, да, насильно, да, но все-таки отдает! Вам, людям, это привычно, вы всегда отдаете что-нибудь, добром или недобром — силы, деньги, слова, жизнь! — но вы зовете меня дьяволом, потому что я другой!
Для вас свобода начинается со слова «нет», потому что говоря «да», вы подписываете договор, а потом — какая потом может быть свобода?! Я же говорю «нет», и это мое рабство, потому что «да» открывает двери внутри меня, открывает ворота в ад, в «да» наоборот, даруя свободу вам войти… но и аду выйти!
Умри, свобода слова «да»!
Я не умею отдавать!
Я не умею… я не умел отдавать.
Я — крепостной Тьмы, я — виллан Геенны, я — пустая перчатка, я чувствую в себе заполняющую пустоты руку Преисподней и завидую тому преступнику на эшафоте, в чье чрево входит сейчас заостренный кол.
Что взять с пустой перчатки?
Оказывается, есть что…
Оказывается, я даже могу дарить добровольно, и это ново и удивительно, как разнообразие приевшейся боли.
Я больше не одинок.
Правда, воровочка?!
Если ты сумела войти и выйти, если я сумел остановиться на миг и, приплясывая босыми пятками на адской сковороде, сделать невозможное — значит, я не одинок, даже зная, что подобные мне никогда не пересекаются друг с другом в этом мире. Одиночество горящего изнутри дьявола в толпе людей, полагающих, что это они мучаются, как никто; одиночество ада в чистилище — неужели ты не навсегда?!