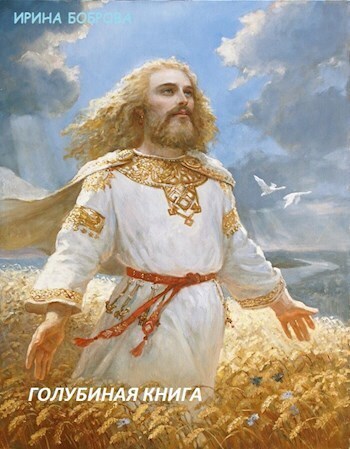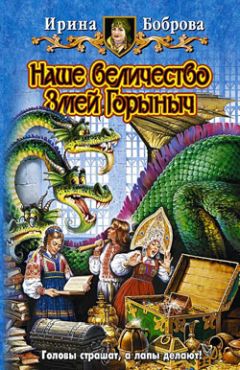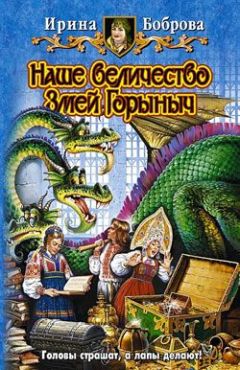мягкость появилась, а в коленках мелкими мурашами дрожь забегала: над дубом, выстреливая в ствол молниями и страшно громыхая, висит чёрная туча. И ведь не скажешь, что совсем недавно родительское облако светлым было, едва не прозрачным.
Не хотелось утро головомойкой портить, да деваться некуда. Взлетел он к Роду старому, стоит, с ноги на ногу мнётся, бороду в руках теребит, а сам глаз поднять не смеет. Ждёт, что отец скажет, какую провинность на вид поставит. Сам — то он себя виноватым не чувствовал, напротив, считал тихую ночь большой заслугой.
— И в глаза отцу посмотреть стыдно, вредитель ты эдакий! — сурово молвил Род.
— Нет за мной вины, батюшка, — ответил Сварог, наконец, осмелившись взглянуть родителю в лицо. Старик на каменную спинку не опирался, сидел прямо, словно аршин проглотил, лицо чёрное, в глазах ярость молниями сверкает.
— Немедля вернуть всех прислужников, каких вчера твой сынок на землю скинул, иначе беда будет.
— Не вижу в том беды, только облегчение для ушей ваших, ибо народу поубавилось, а значит, и шуму меньше стало во многие разы. Обойдутся наши божественные родичи без прислужников.
— Лес без подлеска не живёт!!! — Прогрохотал Род, вскакивая с кресла. — А ну как променяют людишки наших леших да водяных на грецкую нечисть, и что тогда с нами будет?
— Да кто ж в Лукоморье верить в панов и сатиров будет? Да разве ж людишки от своих русалок в пользу нимф да дриад откажутся?
— Откажутся, и сами себе объяснят, что на то де воля наша была. У людей всегда так — лишь бы невиноватыми остаться да в конфликт не впасть. Всем хорошими стараются быть, для всех добренькими. И веру легко сменят, ежели нашу мелочь грецкие да италийские хулиганы победят и из Лукоморья под зад выпнут. Паны да сатиры с дриадами — всё равно что десант вражеский. Они свою линию гнуть будут, льстивой пропагандой, чуждой идейностью людишкам уши забивать да мозги охмурять. Те и поверят, как миленькие поверят, с большим удовольствием. А без веры мы — боги славянские — всем сонмом загнёмся, как листва опавшая усохнем и опадём. — Старик рухнул в кресло, будто на пламенные слова истратил весь свой пыл. — С листвой прошлогодней, сам знаешь, что делается. Гниёт она.
— Это что ж выходит… — Сварог, представив нарисованную картину, оторопел:
— Это… которое… оно самое?… Это что ж получается?..
— А то и получается, что забвение людское хуже смерти. Мы — то не листья жухлые, из нас — то удобрения не получатся. Мы ж будем нежитью по свету слоняться. Потеряв лицо, следом и облик свой потеряем. Забытых богов боятся, так страх тот пищей нам будет. Пугать начнём, в деградацию страшную впавши. Своих сил не будет у нас, у обескровленных, из людишек кровь пить начнём. И — эх — хе…
Светлый Род закрыл ладонью глаза, шмыгнул носом.
— Отец, ты того… этого… ты не это… — растерянно пробормотал Сварог. — Я ж мигом верну всех назад.
— Уж постарайся, — старик раздвинул указательный и средний пальцы, сквозь отверстие хитро глянул на сына и добавил:
— Зачем нам в Лукоморье конкуренты?
Но последних слов райский управитель уже не слышал, кинувшись со всех ног выполнять родительское пожелание. Действовал быстро, давным — давно проверенным методом — деткам перепоручил работу.
Сварожичи мигом всю мелочь волшебную назад вернули, и дальше давай развлекаться. За животы держатся, со смеху покатываются! Комичней картины не придумаешь: сатиры на землю попадали, верещат, штаны друг с друга стаскивают, а нимфы с визгом от скандинавов бегают — те с них сарафаны снимать вздумали, да увлеклись. И началось опять в Ирие столпотворение!
Плюнул Сварог в сердцах, порадовался, что плевок впустую не пропал — Одину на шлем угодил. Потом посокрушался немного: нимфы в сарафанах ему больше понравились. Загляденье, а не девки! Да и козлоногие прислужники Пана и Вакха, облачённые в штаны, проблем бы меньше создавали. Будь его воля, он б те порты, синие в чёрную полоску, намертво б на сатирах закрепил.
С беспокойством взглянул в сторону терема любимой дочери Лели, пересчитал колыбели у крыльца. Показалось, что прибавилось люлек, вроде парочка лишних. Пересчитал снова — ещё четыре насчитал. В третий раз принялся Сварог пальцы загибать — так пальцев не хватило, а колыбели перед теремом уже в пять рядов стоят.
— Ох, чует моё сердце напасть новую. Эх, как бы не обнаружить у Лели сынка козлоного да рогатого. — Вздохнул Сварог, бороду седую раз, другой дёрнул, да и успокоил себя тем, что де обсчитался, и новых божественных жителей в Ирие пока не предвидится.
Но от правды не укроешься, пять рядов колыбелей обещают целый выводок шумных и шустрых внуков. Полетел обеспокоенный отец к дочери, только пробиться в терем не смог. Народу в него набилось — не протолкнуться, и спят, и едят тут же, на полу, и юбки разноцветные на верёвках сушатся. Дети орут, бабы галдят, мужики в карты режутся. А молодёжь делом занята: за теремом на лужайке поют и пляшут. И Леля с ними кружится, в ладони хлопает, улыбается.
— Ой, батюшка! — воскликнула она, увидев Сварога. — А у меня гостей тут! Пришли, бедные, ажно с самой Скифии, ребятишек кучу в пути понарожали. Я им люльки старые отдала, у меня детки повыросли, и мне без надобности.
И снова в пляс пустилась. Сварог хотел сказать, что со скифской роднёй аккуратнее надо и вообще ухо востро держать, что они сами — то сгребутся в минуту, и уйдут, а колыбели оставят — все пять рядов. Да не пустые, а с младенцами. А воспитывать кто будет? Кто? Да он, Сварог, естественно. Другое дело, как потом жене объяснить, что это не его родные дети? Это уже отдельный вопрос, это уже его голова болеть будет, после очередного битья посуды, какое Лада пренепременно устроит.
Хотел сказать, да рукой махнул, плюнул: вопрос комплексно решать надобно, тут старый Род прав.
Тяжело на сердце у райского управителя, камнем стопудовым разговор с родителем лёг. Так сдавило, что дышать невмочь, а уж как представит, какие перспективы безрадостные открываются перед богами, так и вовсе жить неохота. А детки знать ничего не знают, ведать не ведают, всё скачут да пляшут, песни поют да сурицу крепкую пьянствуют. Разговор же с родителем райский управитель детям не передал, но сам крепко впечатлился. Страшна судьба, какая ждёт забытых богов, ох и страшна! И так же Сварог прочувствовал, как тяжело и горько быть отверженным, тем, кого люди забыли, так ярко представил безрадостное