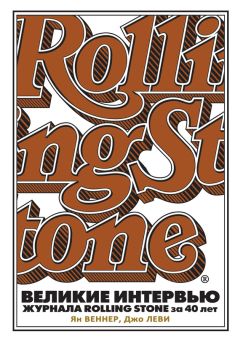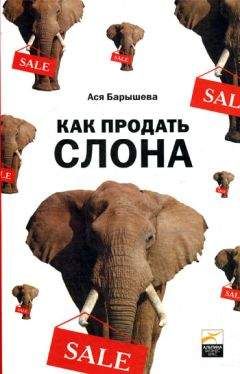Он ждал, но ничего не происходило. Задерживать дыхание дольше стало невозможно, он высунул голову, судорожно вдохнул, разлепил кое-как веки… Шторбов рядом не было. То ли потеряли они его запах среди навоза, то ли оказались тварями брезгливыми, этого Йорген не знал. Но до самого рассвета он так и просидел в своем неожиданном убежище, и если не брать в расчет вонь, оно оказалось совсем неплохим, потому что навоз выделял тепло. В общем, ночь юный ланцтрегер фон Раух провел вполне сносно, могло быть гораздо, гораздо хуже.
Но потом наступило утро, благословенную обитель пришлось покинуть. Распространяя на всю округу зловоние, Йорген шел на запад через поля — нечего было и думать искать в таком виде альвов. На ветру, им же накануне предсказанном, навозная жижа, облепившая его с ног до самой макушки, стала подсыхать, стягивать кожу на открытых участках тела. Только об одном мечтал Йорген в те страшные часы — о воде! Не домой вернуться, не людей встретить, не поесть, в конце концов, уже сутки во рту не было ни крошки. Окунуться в чистую ли реку, заросший ли пруд… Да хоть бы лужа какая попалась на пути, прах ее побери! Хоть бы лицо умыть!
В таком виде и нашел его Дитмар. Бледный, всклокоченный, глаза подозрительно красные… Йорген ждал привычных насмешек, благо повод был в буквальном смысле слова налицо. Вместо этого брат подхватил его на руки и, не обращая внимания на грязь и вонь, принялся целовать, будто младенца, прямо на глазах у солдат. Конечно, не следовало бы так обращаться с человеком, который прожил на свете уж больше десятка лет и имел немало боевых заслуг. Но Йорген даже вырываться не стал на радостях. Право, пусть лучше целуют, чем дразнятся.
Тогда он был слишком молод и увлечен собственными бедами, чтобы понять, какую кошмарную ночь пришлось пережить его родным, они уж и не чаяли видеть его живым. Он понял это много позже, когда научился ставить себя на место других и мог представить, что чувствовал бы сам, окажись в его положении, скажем, Фруте. Честное слово, лучше в навозе сидеть, чем мучиться безвестностью!.. (Хотя Фруте в подобной ситуации как раз в навоз-то и не полез бы, вот что самое печальное. У альвов собственные представления о меньшем из зол.)
…Вот какую историю поведал бы Йорген в назидание Кальпурцию, если бы зашла речь. Зря силониец беспокоился: и пропавшим его считали не одну ночь, а долгие месяцы, и мохнатые лошадки — это все-таки не жидкий навоз. Так что ему абсолютно ничто не угрожало.
Глава 16,
в которой Кальпурция укоряют за то, что был плохим рабом, а Йорген получает двадцать крон долга и обзаводится условной невестой
И размечтался, как поэт:
«Жениться? Мне? зачем же нет?»
А. С. Пушкин
Кальпурций в воображении своем много раз рисовал эту сцену. И в самом начале пути — тогда он мнил себя героем-победителем, возвращающимся домой в лучах славы и лавровом венке, по-особому лихо сдвинутом на правое ухо. И когда его, избитого и униженного, волокли на цепи по городам и весям Севера — тогда мечты о возвращении казались несбыточной сказкой, помогающей остаться человеком, не позволить себя сломить. И особенно в последние дни. Он только об этом и мог думать. Как встретят, как примут весть о гибели отряда и рабстве? Что скажет отец, что скажет мать? Останутся ли они благородно-сдержанными или дадут волю чувствам? И что это будут за чувства? Кого из домашних он увидит первым?
Вопросов было множество, душу обуревали нетерпение пополам со страхом, а тут еще лошади эти дурацкие!
На самом деле все вышло очень трогательно. Первым его заметила няня-кормилица, на руках которой вырос и он сам, и младшие братья его, и сестра. Женщина шла через двор с корзиной фруктов в руке.
— Нянюшка! — окликнул он ее каким-то чужим и хриплым голосом, сам себя не узнал.
Она обернулась резко, выронила корзину — ярко-оранжевые плоды раскатились по мраморным плитам во все стороны, как-то смешно, по-птичьи взмахнула руками и, вместо того чтобы устремиться навстречу своему любимцу, с истошным визгом бросилась в дом (не самом деле это роскошное строение следовало бы именовать дворцом или усадьбой, но Кальпурций привык думать о нем именно как об отчем доме).
На дикий крик ее из комнат выбежали все, кто там был: мать, отец, сестра, слуги и рабы. Скорее всего, они решили, будто случился пожар, потому что некоторые, включая саму мать, обычно очень щепетильную в этом отношении, одеты были несколько небрежно.
А дальше все было даже лучше, чем он мог себе представить: слезы, поцелуи, объятия и причитания. Кто бы мог подумать, что супруга судии Тиилла, почтеннейшая матрона Клавдра, чопорная и утонченная дама, умеет причитать не хуже простой деревенской бабы?! Так они голосили с нянюшкой хором: «Да родной ты наш, да любименький!» — пока отец, опомнившись от первого потрясения, не посмотрел строго.
…Люди смеялись и плакали от радости, ничего вокруг не замечая, и Йорген почувствовал себя лишним, ему казалось, он видит то, что для посторонних глаз совсем не предназначено, отчего всем потом будет неловко. Тогда он стал потихоньку, задом, задом уползать со двора. Но Кальпурций этот его маневр заметил, уцепил за рукав и поставил пред очи своих домочадцев. Представил очень торжественно:
— Отец, матушка, вот мой добрый друг, благородный Йорген эн Веннер эн Арра фон Раух, ланцтрегер Эрцхольм, сын ландлагенара Норвальдского, начальник столичного гарнизона гвардейской Ночной стражи Эренмаркского королевства! (Надо же, выучил! — мелькнула у Йоргена восхищенная мысль, собственное титулование он и сам затруднялся выдать вот так с ходу, не задумываясь и на одном дыхании.) Это он помог мне выкупиться из жестокого рабства. Надеюсь, он станет столь же желанным гостем в нашем доме, каковым я был у него… Да! — вдруг некстати вспомнил он. — Я ему еще денег за выкуп остался должен…
— Двадцать крон серебром, — скромненько подтвердил Йорген. Он вдруг растерялся почему-то и не знал, чего бы такого умного еще сказать, чтобы о нем не стали судить как о невеже-северянине, поэтому просто учтиво поклонился.
— Сколько?! — вырвалось у судии Тиилла. Он просто поверить не мог, что его сына, его плоть и кровь, оценили так дешево. В богатой Силонии за двадцать северных крон можно было купить разве что курицу-несушку.
— Но ведь я был самым плохим рабом, отец, — пояснил молодой Тиилл. — Проявлял непокорство, стремился в бега…
— Запомни, сын мой, — покачав с укоризной головой, очень торжественно молвил судия Вертиций Тиилл. — Человек нашего славного рода всегда и во всем обязан быть лучшим! — Но, к чести его, здравый смысл тут же взял верх над фамильной спесью. Он хлопнул себя ладонью по лбу. — Ах, господи! Что я такое говорю! Не иначе, умом помутился от радости. Человек нашего рода даже в самом бедственном положении должен уметь сохранять гордость, я рад, что мой сын оказался достоин своих славных предков!