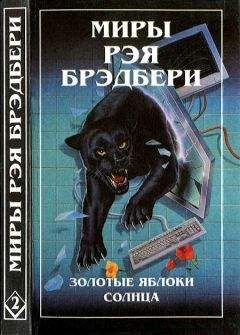— Сыночек! Вот это громадность! А оскал! До чего же оскал у тебя теперь необъятный!
А Жар, немного опомнившись, тому перво-наперво удивился, что головой он почти упирается в потолок. На цыпочки встал и уперся.
— Ну вот, — изумленно сказал, — теперь меня точно не победить!
— Тебя и меня! Сынок! — крикнул Велес и лапищей волосатой сына похлопал. Нарочно похлопал так, что в другой бы раз и свалил. А нет, теперь устоял его сын да еще отца в ответ приударил — Велес не крякнул едва. Сдержался, сказал: — Ты теперь отдыхай, отъедайся. Спи вволю. А после будет у нас разговор!
— Мы подумаем, как отомстить за меня, да, отец?
— Аха-ха! — и почти не хромая, Велес к трону пошел, и легко запрыгнул в него, до того был взволнован. — Мы подумаем, о путешествии к Нижнему морю! О необъятности мира, который объять дано только нам!
— Но сначала, отец, мы должны разразить людей! Замучить их гладомором, падежом коров… А еще сотрясением земли! Отец, ты же можешь!
— Не спеши, сын. Сначала мы выбросим из небесного сада этого длинноусого и глухого метателя молний! А Мокошь похитим…
— И Ягду! — с волнением выкрикнул Жар и — чтобы волнение унять: — И Щуку похитим, и Ладу! Всех, всех, кого захотим!
— Ты вырос, сынок! — и Велес трижды хлопнул в ладоши. — Кормить тебя надо теперь за троих.
И тут же забегала нечисть, засуетилась — были, видимо, в боковом коридоре запасы — и вот уже на согнутых спинах блюда с любимым Жаровым лакомством понесла. Копошились на блюдах черви, личинки, улитки, раки, норовя на каменный пол соскользнуть. А Жар их раздвоенным языком и на полу доставал. На четвереньках стоять ему теперь даже удобнее было.
Молчком это Велес отметил — с неприязнью вначале, а после подумал: «Для замысла моего небывалого это ведь даже и хорошо!»
В последнее время слишком уж часто Мокошь смерчем носилась — не могла себе места найти в небесном саду. Это и люди приметили и между собой обсуждали, тревожились, а иные и к Ладе спешили, чтобы Лада им погадала: не прогневали ли они Мокошь-богиню чем? Чаще всех Яся гадать ходила — так за Утку и Зайца страшилась. И Роска, Калины жена, чуть не всякий день приходила, потому что первенца своего ждала. А если Мокошь во гневе будет, кто же в родах тогда поможет, кто младенца приветит — нить на новое веретенце натянет?
А Родовит сам с собой, без Лады, так решил: жертвы Мокоши и Перуну надо удвоить. Он-то знал, чем богиню прогневать мог!
И все-таки — что же Мокошь? Себе она свой непокой хоть чем-нибудь объясняла? Грядущего ли страшилась, небывалого ли ждала? Или будет вернее сказать: не ждала уже — рыскала, высматривала повсюду? Вот вспорола Сныпяти брюхо, как ножом по рыбине серебристой прошлась, чуть икры из ладейных людей на берег на наметала — а зачем? Вот заметила на березовом склоне Кащея, и ему вдогон понеслась. Обогнула Кащея, подхватила Фефилу — неприметного в рыжей листве, маленького зверька — вихрями ее стиснула, будто зернышко жерновами, потерла да и выбросила — в болото хотела забросить, но промахнулась — на вершине высокой осины очутился зверек. Не любила Мокошь Фефилу, всегда не любила, потому что не знала о ней ничего: ни вода небесной реки, ни след от копытца про Фефилу не говорили. Сколько в них ни гляди, а не видно там было ее!
И когда с неподвластным этим созданием наконец-то разобралась, обратила свой взгляд на Кащея. И хотя обещала Симарглу не вмешиваться в его судьбу, — но Симаргл свое слово уже ведь нарушил! — вот и ей захотелось, раз нельзя подкрутить веретенце, самого его подхватить, завертеть… Или нет, веселее забаву придумала Мокошь — перед самою мордой его коня ком из рыжей листвы слепила и кубарем к близнецам его погнала! И уж так от него боялись отстать оба — и конь, и Кащей — хохотала из смерча Мокошь — так неслись за ним во всю прыть, что опомнились только возле самой пещеры, когда черные волны овец их со всех сторон окружили и стремительно повлекли в кромешную тьму. А Лихо увидела только, что за гость к ним пожаловал, и невод из рук обронила, и гостя нежданного побежала встречать. А Коловул кругами уже носился и овцам своим с рычанием помогал.
Тут и оставила Мокошь Кащея — своим близнецам на забаву — а что дальше делать, не знала — чем бы можно еще непокой свой унять. И домчавшись до неба, стала в клочья рвать облака. А потом уселась на самом пологом и снова богиней сделалась — ясноглазой, пышноволосой, нарядной. Обхватила руками колени да и подумала вдруг: отчего же так весело ей и так страшно? И разве может быть разом и страшно, и весело? Может! Так было уже однажды, когда Велес ее похищал. И предчувствие — да? неужели? — все одежды ее вмиг окрасило в алое и лиловое.
А в Селище желтый лист уже все деревья обвесил. А где не был он желтым, был багряным, был рдяным, был золотым… Яся все глаза проглядела — так Утку и Зайца с охоты ждала. Удал уже сколько раз в лес ближний ходил, он и в дальний лес собирался, но туда дела не пускали. А вернее сказать: Родовит. Он теперь всякий день жертвы богам приносил. А тверже руки, чем у Силы с Удалом, не было в Селище ни у кого.
О судьбе кудрявой черной овцы, которая той ненастной, ни на что не похожей ночью сначала в окне показалась, а потом и по дому княжескому засеменила, копытцами застучала, Родовит теперь думал дни напролет. Овца эта в клетке жила, в которой когда-то Кащея держали. И стоило Родовиту мимо клетки пройти, так сразу овца и кричала:
— Бе! — и замолкала на миг, как будто от Родовита ответа ждала, а не дождавшись, опять вопрошала: — Бе?
И тогда Родовит помимо воли своей отвечал:
— Да.
И оттого, что опять выходило: «бе-да» — вздрагивал старый князь. Потому что беды отовсюду ждать можно было. От Утки и Зайца — что не вернутся; а если вернутся, от Ягды тогда — что не примет она ладейного жениха; от Жара — что явится снова да еще Велеса ярость на Селище наведет; а уж какой беды можно было ждать от Кащея, от гнева богов за него — Родовит и подумать страшился… В конце концов так решил старый князь: беду эту надо против овцы повернуть. Беда, говоришь? Вот и будет беда на черную твою голову. В жертву решил Родовит принести злую вещунью — Перуну и Мокоши.
Утро было. Туман над землею стоял — густой, непроглядный. В молоке этом даже овца не черной, а серой была. А если на пять шагов отойти, и белой уже овца становилась. Даже огонь, который Сила развел, серым пеплом казался покрытый. А идолов среди капища словно и не было вовсе. И потому Родовит прямо к ним подошел, уж если глазами нельзя — руками к богам прикоснуться. Овцу Удал на плечах держал. И он же должен был горло ей перерезать. А только послышалось за спиною у Родовита: «Бе!» А потом сразу крики Удаловы: