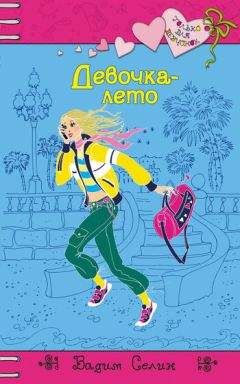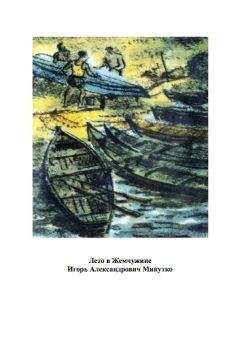Роман продолжает рассказывать о своем первом опыте в курении сигарет, а я зависаю.
Где рос?.. Лучше бы не спрашивал. От этого вопроса накатывают воспоминания об интернате. Они тоскливые и неприятные.
Коллектив в интернате был. Правда, дружили ребята по кучкам. А у меня не получалось. С самого начала я стал для всех чужаком. На меня сразу наехали, начали грубо расспрашивать кто такой, откуда, а потом узнали, что домашний и избили. Не особо сильно избили. Так, слеганца. Типа дали понять, что не в сказку попал и привыкал к побоям.
Я тогда и драться не знал, что это такое. Они бьют, а я как дурак возмущаюсь. Требую, чтобы прекратили. Старший у нас в комнате был Леха Бобков. Он несколько раз ударил по лицу, потом скинул меня с инвалидного кресла и давай глумиться, на руки наступать, потом прямо на горло. Это когда я стал громко кричать и звать на помощь. Сам падаль давит зимним ботинком, смотрит на меня и лыбится. Никогда не забуду эту довольную рожу. Ему нравилось причинять мне боль, смотреть, как я хриплю, как задыхаюсь.
Меня охватил дикий ужас. Я поверить не мог, что так можно издеваться над человеком. И уж тем более не предполагал, что подобное когда‑нибудь коснется меня.
Когда Бобков меня бил, особо больно не было. Только когда он начал давить ботинком стало нестерпимо больно. Но не это меня зацепило. Зацепило нереальное унижение, с каким все сопровождалось. Взгляды остальных обитателей комнаты. Они обступили и смотрели на меня как на ничтожество.
Даже те, кого постоянно обижали, нисколько мне не сочувствовали. Мне кажется, в тот момент они радовались за то, что не только их сломали, вот и еще одного новенького. И за то, что на одного сломленного в комнате станет больше. Им меньше будет перепадать оплеух и затрещин.
Напоследок Бобков сказал, мол, живи до завтра, а завтра он повторит экзекуцию. Будет бить теперь меня постоянно, чтобы не расслаблялся. В завершение он огласил список того, что я должен буду делать. Типа носить для него вареные яйца, масло с хлебом. А когда выдадут новую одежду, я должен буду ее сначала принести ему. Он будет решать, что мне оставить.
Конечно же у меня отобрали все ценные вещи, которые я взял из дома. Вместе с почти новой одеждой ушли диски с играми, планшет, смартфон и даже сумка, в которой они находились. Оставили только то, что было надето на мне и зубную щетку, которую специально сломали.
Весь тот вечер я сидел и боялся. Меня охватил дикий ужас за будущее. Терпеть подобное снова и снова я просто не мог. Для меня было лучше сдохнуть, чем продолжать быть ничтожеством, над которым будут постоянно издеваться.
Наступил отбой, в комнате выключили свет, а я продолжал себя изводить мыслями о том, что могу сделать.
Вот тогда все и свершилось.
Я сломал свой барьер.
Покончить с ним – вот единственный выход, какой был мною найден. Мне было плевать, что будет потом и каким станет наказание. Я просто не мог позволить, чтобы какая‑то мразь избивала меня, унижала и ловила от этого кайф, превращая мою жизнь в ад.
Дождавшись пока все уснут, я тихо снял с кровати душку, перелез с кровати в инвалидное кресло и подкатил к спящему Бобкову.
Стоило увидеть его безмятежное спящее лицо, освещенное тусклым светом уличного освещения, я остановился. Во мне начало трепыхаться все то хорошее, что было. Оно кричало, взывало к совести, обращалось к милосердию.
Скорее всего, я бы не решился совершить задуманное. Посидел бы, помялся в кресле около него и покатил обратно к своей кровати. Но Бобков проснулся и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Он понял, зачем я около него. Ни на грамм не сомневаюсь в этом. Он не заорал и не вскочил лишь потому, что до смерти перепугался.
В этот момент я все понял. Хватило всего лишь секунды или около того. Если я сейчас отступлю – проиграю. Проиграю в пух и прах. Сам стану помощником для собственного уничтожения в последующем. Мрази подобные Бобкову пользуются тем, что мы не можем переступить через себя. Не можем сломать свой барьер. Как дураки вспоминаем о добре, милосердии и прочей ху*не. Это наша слабость. Мразь должна быть наказана за свои поступки. Только тогда добро возьмет верх, а зло проигрывает.
Я принялся душкой бить по Бобкову. Со всей силы, прямо по лицу с испуганными глазами. Оно, как и положено лику твари, исказилось. Приняло свое истинное обличие.
Крик, визг, мат… Конечно же Бобков попытался сначала прикрыться, потом выскользнуть. К этому времени я переполз на него и продолжал лупить по нем не останавливаясь. Даже когда в комнате включили свет и передо мной предстало разбитое в кровь лицо, побитые руки и море кровищи на постели Бобкова, я продолжал его бить с остервенением.
Жившие в комнате ребята в первые секунды настолько были шокированы происходящим, что только испуганно орали и не вмешивались. Этого хватило, чтобы наконец‑таки вырубить Бобкова и дальше бить по его замершему телу. Лишь после этого меня стащили и принялись бить ногами.
Наверное, они бы меня убили. В тот момент все находившиеся в комнате потеряли рассудок. Повезло, что воспитатель была рядом и услышала дикие крики. Она вбежала, с отборными матами и оплеухами растащила ребят и тем остановила творящееся в комнате безумие.
Потом пошли разборки с воспитателями, врачами, администрацией интерната и прочее. Меня порывались даже в дурку отправить, но в итоге оставили. Только перевели в другую комнату и первое время за мной следили. Но это уже было не суть важным.
Бобков был зверем в человеческом обличии. После моего побоища он превратился в овощ. Даже есть сам не мог. Зверь в нем умер, чтобы родиться во мне. Но я не Бобков, держу своего зверя на поводке, выпускаю лишь по необходимости.
– Ну что, еще по пивку? – с задором предлагает Роман и, открыв дверь между вагонами, кидает вниз окурок.
– Давай две возьмем, а? Не, ну чо мы как эти? Не хотят, пусть не пьют, а мы выпьем, – дополняет предложение Семён.
Оба оборачиваются ко мне.
– Что вы на меня так смотрите? Я категорически за!
– Ну и отлично. Три против двух. Сдадутся, никуда не денутся!
Роман первым возвращается в вагон, за ним я и замыкает тройку Семён.
В вагоне пассажиры уже улеглись. Продолжают бодрствовать пока что наша компания и два старика с боковушки, попивающие водочку. Вот только в проходе у полукупе с девушками стоят два каких‑то мужика в камуфляжной форме.
В вагоне горит тусклый свет, еле видно. Но этого вполне достаточно, чтобы разглядеть черные от скверны лица. О чем они говорят неслышно. Слышен лишь повышенный тон девчонок и мужчин.
– Походу полиция. Давайте у себя отсидимся, – предлагает Роман.
– Да не, вояки какие‑то, – присмотрелся получше Сёма, – сто процентов вояки. Чего они к ним прицепились?
Ни тот ни другой не собираются идти узнать в чем дело. Мне же в голову сначала приходит мысль, что это по мою душу, но тут же понимаю, ошибаюсь. Иначе эти двое пошли бы дальше искать меня по вагону. Здесь что‑то другое.
– Что встали? Пойдем выяснять, – говорю и подаюсь вперед.
Парням ничего не остается, как пойти за мною.
Глава 2
Подхожу ближе и по разговору между военными и девушками становится понятно в чем дело. К Эмили и Еве нагло пристают, а те шлют уродов нафиг.
– Если вы не уйдете я позову проводника! – угрожает Эмили в тот момент, когда я появляюсь.
– Вот наши ребята! – показывает на меня Ева. – Так что отвалите!
Вояки только сейчас замечают наш приход. Из‑за черноты на лицах и тусклого света в вагоне не разобрать возраст. Им и 30, и все 40 дать можно. Высокий, выше меня на полголовы, стоит с девушками. Второй, коренастый, похожий на квадрат, в проходе. Они точно военнослужащие. В наличии имеются нашивки, шевроны, сержантские лычки. И что хуже всего, пусть немного, оба осветленные.
Коренастый прекрасно видит груду стаканчиков на столе, дураку ясно, что девушки не одни. Сам по себе он вряд ли бы к ним пристал. С нашим появлением, он тем более готов уйти. Вон, даже немного отступил. У высокого, напротив, после армейской жизни сперматоксикоз яйца выкручивает, увидел девушек и плевать на условности. Они отшивают, а он все равно лезет и лезет.