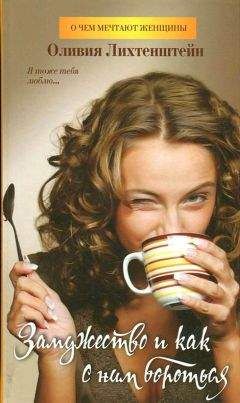Кованый щит хотел ради соблюдения приличий обратиться к солдатам, но сейчас, глядя в их лица, понял, что у него не осталось слов. Слов, способных выразить то, что связывало их всех, слов, пригодных для той странно холодной гордости, которую он сейчас испытывал. В конце концов Итковиан достал меч, проверил повязку, придерживающую левую руку, затем повернулся к главному входу.
Коридор был очищен от трупов, между сложенных тел появился проход к внешним дверям.
Итковиан прошёл по мрачному коридору, миновал покосившиеся, разбитые двери, и вышел на солнечный свет.
После многочисленных атак паннионцы оттащили павших товарищей подальше от невысоких широких ступеней во внутренний двор, где беспорядочно свалили тела в кучу, вместе с мёртвыми — раненых, которые позже скончались от увечий или удушья.
Итковиан задержался на верхней ступени. Звуки боя по-прежнему доносились с площади Джеларкана, но больше он ничего не слышал. Тишина окутала двор перед ним, тишина, настолько неподобающая некогда многолюдному дворцу в процветающем городе, что Итковиан был глубоко потрясён — впервые с начала осады.
О, Фэнер, дай мне увидеть здесь победу.
Он спустился вниз, камень казался мягким и словно пружинил под сапогами. Солдаты последовали за Итковианом, не проронив ни слова.
Они прошли через расколотые ворота, начали прокладывать путь через трупы на подъездной дороге, затем — на улице за ней. Никто из живых не мешал «Серым мечам», но всё же это было долгое путешествие. И оно не обошлось без битвы. Теперь солдат атаковало всё то, что видели глаза, чуяли носы и чувствовали под собой ноги.
В этой битве бесполезными были доспехи и щиты, ничего не приносили взмахи мечей. Душа, ожесточившаяся до бесчеловечности, была единственной защитой, и для Итковиана эта цена была слишком высока. Я — Кованый щит. Я покоряюсь тому, что лежит передо мной. Горе, что гуще дыма, высвободилось и пропало, замарав безжизненный воздух. Город убит. Даже выжившие, которые прячутся сейчас в подземных тоннелях — забери меня Фэнер, лучше им никогда не возвращаться… не видеть этого.
Дорога привела их к площадке между кладбищами. Итковиан осмотрел место, где стояли насмерть его солдаты. Оно ничем не отличалось от других сцен, которые выхватывал взгляд Кованого щита. Груды мертвецов. Как и обещал Брухалиан, ни один булыжник не уступили врагу без боя. Небольшой город сделал всё, что было в его силах. Возможно, победа паннионцев и была неотвратимой, но всё же существовали пределы, превращавшие непреклонное наступление в проклятье.
А теперь кланы Белолицых баргастов заявили о собственной неотвратимости. То, что несли другим паннионцы, теперь принесли им самим. Нас всех столкнули в мир безумия, и нынче каждый должен вытащить себя из Бездны, вырваться из этой нисходящей спирали. Из ужаса должно родиться горе, а из горя — сострадание.
Когда отряд вышёл на узкую улицу на краю Даруджийского квартала, из переулка впереди показалась группа баргастов. В руках — окровавленные мечи, окрашенные белой краской лица запятнаны алым. Первый из воинов ухмыльнулся Кованому щиту.
— Защитники! — рявкнул он по-капански с резким акцентом. — Как вам дар освобождения?
Итковиан проигнорировал вопрос.
— Ваши сородичи — у Пленника, сударь. Я вижу, как гаснет защитное сияние.
— Мы узрим кости своих богов, да, — кивнул воин. Его маленькие тёмные глаза разглядывали «Серых мечей». — Ты ведёшь племя женщин.
— Капанских женщин, — произнёс Итковиан. — Самую выносливую силу в городе, хотя лишь нам удалось её обнаружить. Они теперь — «Серые мечи», сударь, и тем делают нас сильнее.
— Мы везде видели твоих братьев и сестёр, — прорычал баргаст. — Будь они нашими врагами, мы радовались бы их смерти.
— А если они — союзники? — спросил Кованый щит.
Воины-баргасты как один приложили правую ладонь тыльной стороной ко лбу, затем их командир ответил:
— Утрата наполняет наши тени. Знай, солдат: враги, которых вы нам оставили, были слабы.
Итковиан пожал плечами.
— Вера паннионцев не знает поклонения, лишь необходимость. Их сила — пуста, сударь. Вы сопроводите нас к Пленнику?
— С радостью, солдат. Честь лежит в твоей тени.
Большинство строений в Даруджийском квартале сгорели, местами развалины засыпали улицы почерневшими камнями. Пока «Серые мечи» и баргасты пробирались по наиболее проходимым переулкам, взгляд Итковиана был прикован ко всё ещё стоявшему зданию по правой стороне. Это был высокий дом со странно изогнутыми стенами. У внешней стены развели костры, которые опалили камни, но по какой-то причине атака пламени не удалась. Все арочные окна, как показалось Итковиану, были надёжно забаррикадированы.
Баргаст проворчал:
— Ваш род переполняет свои курганы.
Кованый щит посмотрел на него.
— Сударь?
Воин кивнул на затянутое дымом здание:
— Да, это проще, чем копать и ровнять яму за городом, а затем засыпать её вёдрами земли. Похоже, вам больше нравится видеть со стен равнину. Но мы не живём среди мертвецов, как ваш народ.
Итковиан обернулся, посмотрел на здание пристальней, на этот раз справа и немного сзади. Его глаза сузились. Баррикады у окон. Снова плоть и кости. О, Двойные Клыки, кто стал бы строить такой некрополь? Не могло ведь это случиться во время защиты здания?
— Мы подходили близко, — сказал воин рядом с ним. — Стены излучают тепло. Густая жижа сочится из трещин в стенах.
Баргаст вздрогнул и сотворил другой знак, рукоять его меча-крюка стукнула по обшитому монетами доспеху на груди.
— Клянусь костями, солдат, мы сбежали.
— Это здание — единственное, так… заполненное?
— Других таких мы не видели, хотя прошли одно имение, которое ещё держалось — оживлённые тела стояли на страже у ворот и на стенах. В воздухе пахло колдовством, гнилым порождением некромантии. Я так скажу, солдат — мы будем рады покинуть этот город.
Итковиан молчал. Он чувствовал разлад в душе. Устав Фэнера провозглашал истину войны. Он говорил правду о жестокости, которую человечество способно обратить против себе подобных. Война была игрой для тех, кто командовал: и доской для игры служила умозрительная арена холодного разума; но эта ложь не могла пережить столкновения с реальностью, а у реальности, похоже, не было границ. В основе Устава лежала мольба о сдержанности, убеждённость в том, что славу следует обретать не вслепую, а при помощи серьёзного и ясного взора. В безграничной реальности таилось обещание искупления.