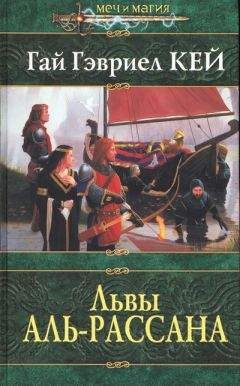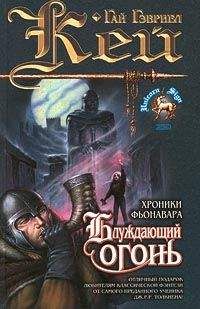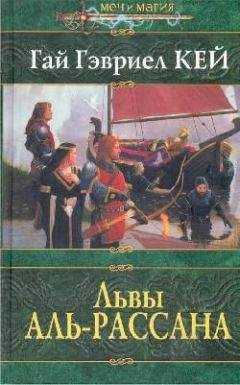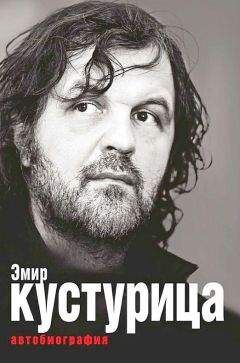Правитель впился зубами в следующую дольку апельсина.
— Мне следовало призвать принца, — задумчиво произнес он. — Но я уверен, что он ничего не знает. Ибн Хайран не стал бы посвящать в свои планы такого глупца. Кстати, его глаз все еще дергается, будто у прокаженного?
Снова наступило молчание. Очевидно, каид ибн Руала лелеял напрасную надежду, что на этот вопрос ответит кто-нибудь другой. Так как молчание затянулось, генерал, затылок которого был единственным видимым правителю с возвышения местом, так низко он склонился, ответил:
— Ваш благородный сын по-прежнему страдает этим недугом, увы, мой повелитель. Мы молимся за него.
Альмалик сделал кислое лицо. Он бросил оставшуюся часть апельсина рядом с подушками и изящно протянул руку. Раб быстро и грациозно подлетел к возвышению с полотенцем из муслина и вытер сок с пальцев и губ повелителя.
— У него смехотворный вид, — сказал Альмалик, когда раб отошел. — Будто у прокаженного, — повторил он. — Он внушает мне отвращение своей слабостью.
Теперь женщина даже не делала вид, что играет на лютне. Она внимательно наблюдала за правителем.
— Встань, ибн Руала, — внезапно приказал Альмалик. — Ты начинаешь мне надоедать. Оставь нас.
С неприличной поспешностью старый генерал вскочил. Лицо его было красным от того, что он так долго простоял с опущенной головой. Он четырежды поклонился и начал поспешно пятиться, продолжая кланяться, к двери.
— Постой, — рассеянно приказал Альмалик. Ибн Руала замер в полупоклоне, словно гротескная статуя. — Ты наводил справки в Рагозе?
— Конечно, мой повелитель. Как только мы начали поиски летом. Мы прежде всего подумали об эмире Бадире из Рагозы.
— А на юге? В Арбастро?
— Это была наша вторая мысль, мой повелитель! Вы знаете как трудно получить информацию у тех, кто живет на землях, находящихся под угрозой этого проклятого разбойника Тарифа ибн Хасана. Но мы проявили усердие и настойчивость. Никто не видел ибн Хайрана в тех местах и ничего о нем не слышал.
Снова воцарилось молчание. Женщина на подушках у возвышения держала в руках свою лютню, но не играла. В зале было очень тихо. Даже рябь не пробегала по разноцветной воде в огромной алебастровой чаше, стоящей в центральном проходе. Лишь пылинки плясали в косых лучах солнца.
— Усердие и настойчивость, — задумчиво повторил правитель. Он покачал головой, словно был огорчен. — У тебя тридцать дней, чтобы найти его, ибн Руала, или я прикажу тебя кастрировать, вспороть тебе живот и надеть твою гнусную голову на пику посреди базарной площади.
Все разом ахнули, но, похоже, этого ожидали как неизбежного финала только что разыгранной сцены.
— Тридцать дней. Тридцать. Да. Благодарю вас, мой повелитель. Благодарю вас, — ответил каид. Этот ответ звучал абсурдно, бессмысленно, но никто не смог бы придумать никакого другого ответа.
Как всегда молча, двое мувардийцев распахнули дверные створки, и генерал вышел, пятясь назад и продолжая кланяться. Двери захлопнулись. Их стук эхом разнесся в тишине.
— Прочти ту поэму, Сефари. Мы хотим еще раз послушать эти стихи. — Альмалик взял следующий апельсин у подскочившего раба и начал рассеянно его чистить.
Человек, к которому он обратился, был незначительным поэтом, уже не молодым, больше уважаемым за свою декламацию и напевный голос, чем за то, что написал сам. Он неуверенно вышел вперед с того места, где стоял, полускрытый за одной из пятидесяти шести колонн зала. В такой момент не особенно желательно привлекать к себе внимание. Кроме того, «та поэма», как все уже знали, была последним посланием правителю от того печально известного и прославленного человека, которого каид столь безуспешно разыскивал по всему Аль-Рассану. При данных обстоятельствах Сефари ибн Дюнаш с гораздо большей радостью оказался бы в другом месте.
К счастью, он был трезв, что не часто случалось с ибн Дюнашем. Конечно, алкоголь для ашаритов находился под запретом, но также под запретом были женщины джадитов и киндатов, мальчики, танцы, не религиозная музыка и многие восхитительные блюда. Сефари ибн Дюнаш теперь уже не плясал. И надеялся, что это послужит ему оправданием перед ваджи за все остальное, если кто-нибудь из них станет укорять его в прегрешениях.
Но в данный момент он боялся не ваджи. В Картаде Альмалика следовало больше опасаться карающей руки мирской власти. Эта рука мирской власти сейчас спокойно лежала на коленях правителя, который ждал чтения Сефари. Стихи не были льстивыми, а повелитель пребывал в дурном настроении. Эти предзнаменования даже отдаленно не напоминали благоприятные. Поэт нервно откашлялся и приготовился начать.
По какой-то причине раб с корзинкой апельсинов выбрал именно этот момент, чтобы снова подойти к возвышению. Он остановился прямо между Сефари и правителем, а потом опустился на колени перед Альмаликом. Сефари ничего не мог видеть, но остальные присутствующие теперь заметили то, что раб, по-видимому, увидел первым: королю внезапно стало очень плохо.
Женщина, Забира, быстро отложила свой инструмент и встала. Сделала шаг к возвышению и замерла неподвижно. В то же мгновение правитель Картады неловко сполз на бок среди подушек и лежал, облокотившись на одну руку. Вторая его рука судорожно вцепилась в грудь в области сердца. Глаза его были широко раскрыты и смотрели в никуда. Раб, стоявший к нему ближе всех, казался парализованным и застыл прямо перед Альмаликом. Он уже отложил в сторону свою корзинку с апельсинами и теперь не шевелился. Правитель открыл рот, но не издал ни звука.
Собственно говоря, это были хорошо известные признаки отравления фиджаной: от нее перехватывает горло как раз перед тем, как яд достигает сердца. Поэтому никто из свидетелей, кроме раба, стоящего на коленях прямо перед ним, так и не узнал, понял ли умирающий правитель Картады, перед тем как потерял сознание и жизнь и ушел к Ашару среди звезд, что у раба, который все утро подавал ему апельсины, были удивительно синие, ясные глаза.
Внезапно рука правителя подломилась, и Альмалик, широко открыв рот, беззвучно рухнул на россыпь ярких подушек. Тут кто-то вскрикнул, и этот крик эхом отразился среди колонн. Зазвенели голоса перепуганных людей.
— Ашар и бог проявили милосердие, — сказал раб, поднимаясь и поворачиваясь лицом к придворным и потрясенному поэту, стоящему перед возвышением. — Мне очень не хотелось еще раз слушать эту поэму. — Он прижал руку к груди, словно извиняясь. — Я написал ее в большой спешке, видите ли, и в ней есть неудачные выражения.
— Аммар ибн Хайран! — заикаясь, пробормотал Сефари без особой необходимости.