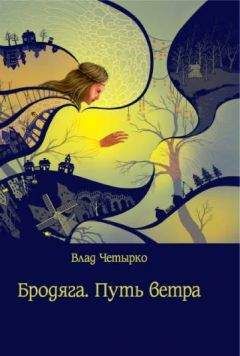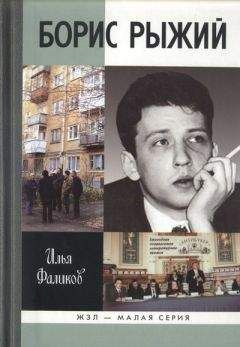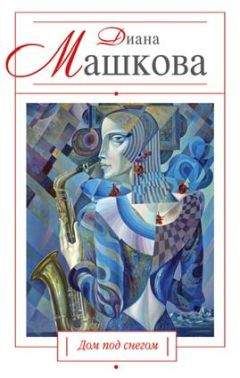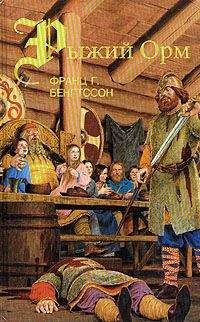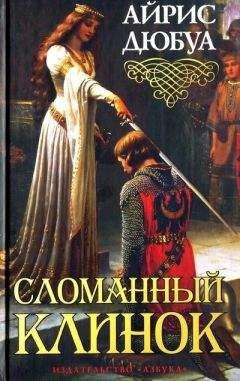Местный кузнец — седобородый крепкий старик — все еще называл его учеником, хотя сам теперь брался за молот куда реже, чем за кружку с пивом; притом пьяницей дядюшка Витан сроду не был. Сельчане быстро смекнули, что пришлый мастер кует не хуже, а напротив — много лучше местного, лишь на словах принявшего его в ученики. Ножи и заступы, рала и топоры, кочерги и подсвечники — спрос на ковку был достаточен для того, чтобы Бродяге хватало на хлеб, молоко, сыр и даже изредка — на мясо. Ян работал на совесть, не стремясь создавать шедевры, — но гефарская школа сказывалась сама собою, а сделать что-то хуже, чем умел, Бродяга просто брезговал.
Ян спохватился, когда молва о мастере-кузнеце разнеслась по всей округе. Это было из рук вон плохо и значило, что скоро надо будет уходить и отсюда. Вот только растает снег, да реки вернутся в берега, а птицы — в леса Альверонского севера… И даже если Дорога так и не позовет его, Ян снова отправится в путь.
Куда угодно.
Лишь бы идти.
А пока что…
У местного пива — густого, пенного, сладковатого — было всего два недостатка. От первого Ян был защищен надежней некуда: иллэнквэллис числил спирт среди ядов и не позволял ему накапливаться в крови, не давая забыться, но при этом — спасая от дурного хмеля, утренней головной боли и жажды. Однако запах перегара, отвратный, как бессмысленность пустой жизни, оставался. И Ян спозаранку яростно полоскал рот и горло, молча проклиная безделье и тягучую лень, которые охватывали деревню в конце каждой недели.
Вот и в этот раз он привычно дошел до ручейной запруды, из которой собрался зачерпнуть воды, наклонился — и поморщился, не обнаружив в вымощенном камнями крохотном бассейне своего отражения.
Он не любил зеркал, а оказавшись рядом с водой — старался в ней себя не рассматривать. Обруч, будто понимая эту причуду, подчас делал Бродягу «неотразимым». Это было удобно, особенно когда приходилось красться и прятаться, однако неприятно: в легендах отражений не имели только нежить да нечисть, и Ян мог подтвердить — не только в легендах. Заглядывая изредка в пустые зеркала и зияющие небом озера, Ян все чаще вспоминал Тень — тоже не имевшую ни отражения, ни Имени… ни смысла существования.
Бродяга мотнул головой, отгоняя тоскливые мысли.
Моргнул и облегченно вздохнул: в воде появилось отражение, и он его, вопреки обыкновению, разглядел.
Лицо как лицо: рот широковат, тонкий нос с горбинкой, высокий лоб… за последние несколько лет он стал слишком высоким, и морщины наперегонки побежали над бровями — глупая привычка глядеть на мир исподлобья не прошла даром. Шрам на левой щеке, едва заметный — со Школы. Виски подернулись серым — кто придумал сравнивать седину с серебром? Пыль это, серая дорожная пыль…
Ян не хотел встречаться взглядом с самим собою, потому в глаза глянул в последнюю очередь. И оторопел, не заметив в отраженном взгляде ни скуки, ни усталости, ни, коль уж на то пошло, даже той же оторопи.
Серо-синие глаза отражения непонятным образом сочетали в себе серьезность и улыбку, спокойствие — и тень озабоченности срочным делом.
Час от часу…
Ян присел, не теряя странное отражение из виду.
— Ты кто? — спросил тихо, враз охрипшим голосом — видно, всерьез считая, что вопрос задан не зря.
И почти не удивился, услыхав ответ.
* * *
Давным-давно, в городе на другом берегу Моря Семи ветров, стоял дом — давно не беленый, со щербатой трубой и окнами, заставленными цветами в горшках настолько, что в занавесках просто не было нужды. На второй этаж — если так можно назвать неотапливаемый и оттого лишь летом жилой чердак — вела деревянная лестница, ступени которой не скрипели, кроме трех. И босые ноги девочки лет тринадцати — легкой, шустрой, сероглазой — старательно переступили через них. Не нарушить бы раньше времени задумчивую тишину, в которой, кажется, можно угадать не только шорох пера по бумаге, но и беззвучный шелест мыслей — как листьев в вековом лесу. Да и не только: если прислушаться, можно различить тихое-тихое бормотание — то ли песню, то ли стих, то ли детскую считалку-лэммидари.
Дверь наверху была приоткрыта — как всегда. Как раз настолько, чтобы в проем вместилось востроносое, не больно красивое, но удивительно живое личико. Девчушка, показавшаяся в дверях, набрала как можно больше воздуха и выпалила:
— Учитель, а может живой человек увидеть лицо Настоящего?
И только после этого открыла полыхнувшие серебром глаза.
Напевное бормотание стихло.
Рука, державшая перо, замерла в воздухе.
От стола, погребенного под ворохом исписанных вдоль и поперек желтовато-белых листов, оторвался плотный коренастый мужчина лет… одному времени ведомо, скольки: волосы вокруг давно перемахнувшего макушку лба были седыми и не больно частыми, но ровно лежать отказывались, словно вспоминая ветер; глаза укрылись в тени кустистых бровей да в близоруком прищуре, исчертившем лицо сетью морщин — но были неожиданно молодыми, яркими, и очень часто — удивленными… Самые удачные из портретов — в книгах и на стенах библиотек — именно те, на которых удалось сохранить этот взгляд.
— Не кличь меня учителем, Званка, сколько говорить? — проворчал он тем бесполезно-грозным тоном, каким взрослые пытаются утихомирить совсем маленьких детей. И подмигнул.
— Ну, Де-е-еда… — Званка, убедившись, что гнать ее не собираются, шагнула внутрь и стала у двери, опершись плечом о косяк.
— Увидеть… — старик неопределенно хмыкнул, вытирая невесть откуда добытой тряпицей капли чернил, плеснувшие на стол с пера. Оглянулся на внучку, словно впервые разглядев ее. Помолчал и, наконец, изрек:
— Ты, постреленок, книги читай пока. Во-он их сколько!
Книг на полках у стен было и правда без счету — но ответы в них давались далеко не на все вопросы.
Званка знала это отлично — читала она с трех лет, причем все, до чего дотягивались ручонки и любопытные острые глаза.
— А если совсем невтерпеж — в зеркало загляни, — продолжил Деда. Именно так звали его дома, и крайне редко — по имени, известному нынче на всех трех материках и пяти архипелагах.
— Эт зачем … в зеркало? — ожидая подвоха, вскинулась девчушка.
— А затем, — прищурился дед. — Вон уж какая барышня вымахала, меня того гляди перерастешь… а на голове словно стая драконят передралась…
Девчонка обижено засопела, без особого успеха пытаясь пригладить встрепанную русую шевелюру. И дед смягчился. Внезапно изменив тон — и, кажется, даже сам голос, — он добавил:
— Лови строчку: «Образ образа Его — в отражении зеркальном». Может, прорастет когда — ты ведь, внученька, немало сможешь…