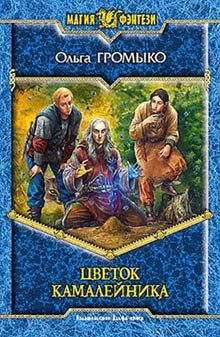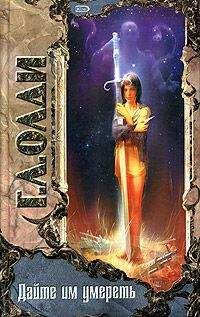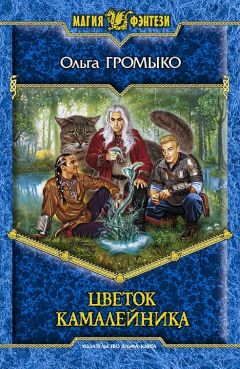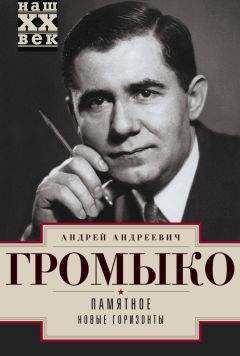Обережник, выругавшись, попытался сдать назад, но крестовины фьет зацепились за свод печи и не пустили. Пока он пыхтел, барахтался и чихал, а остальные растерянно топтались рядом, Архайн, всю «священную битву» неподвижно простоявший в центре комнаты, запоздало, но все равно убийственно изрек:
— Это и есть кошка.
Хруск оцепенел. «Тварь» тоже. Труба оказалась то ли слишком узкой, то ли слишком скользкой, но бедное животное устало бороться за свободу и с обреченным мявом шмякнулось обережнику на голову.
Шестнадцать когтей оказались намного убедительнее двух рукоятей. Со светом в печи изначально было неважно, но Хруск и того невзвидел.
Опомнился он, уже сидя на полу. Рядом валялись кусочки кирпича и разбросанные дрова. Кошка, теперь черно-рыжая, взъерошенным комком сжалась на коленях у «мамочки», и та, обхватив ее руками, выла и раскачивалась взад-вперед.
— И точно — откуда у нее, придурошной, деньги на ирну возьмутся, — проворчал один из бойцов постарше и догадливо добавил: — Небось подушку под платьем таскала… дитёв-то всем бабам хочется, даже блаженным.
— Заткни пасть, умник! — по привычке рыкнул усач, но обережники так нехорошо на него уставились, что Хруску даже рта не пришлось раскрывать. Раньше обережник любил помечтать, как возвысится над ненавистным командиром и сполна взыщет с него за все измывательства, но в жизни куда приятнее оказалось просто наблюдать, как тот сам давится от злости.
Архайн брезгливо стряхнул с рукава крупинку сажи, свернул плеть и вышел из избы.
Усач, решив сорвать досаду на дурочке, замахнулся отвесить ей оплеуху.
— Не трожь ее, — одернул старшой. Ему и самому хотелось кого-нибудь придушить, но полоумная грязнуха вызывала лишь гадливую жалость. Обережник расстегнул казенный браслет. — Иггр всеведущ, но слуги Его порой ошибаются!
Хруск бросил женщине на колени несколько бусин, обычную виру за незаконное вторжение обережи в дом. Та глянула на них и заревела еще горше, словно у нее действительно отобрали дитя.
Да так оно и было.
***
Ночное трудолюбие парней растрогало старуху, и она охотно выдала им не только вилы, но и хорошую масляную лампу.
ЭрТар, как и обещал, развил кипучую деятельность: услужливо распахнул перед Джаем дверь хлева, загнал несчастных хрюшек в дальний угол, кругами побегал за удравшим оттуда поросенком, указал обережнику на самую высокую кучу навоза, посоветовал, куда лучше всего оттащить корыто, три раза переставил лампу на более удобное место, сходил за поленом — подпереть дверь и, отдельно, за хворостиной — отлупить самую наглую свинью, чтобы она не вздумала еще раз укусить его «лучший дрюг» за сапог, рассказал байку о жадном старике и квашеной капусте…
Короче, Джай только через час спохватился, что у него зверски ломит поясницу, половина хлева уже вычищена, а вторые вилы так и стоят прислоненными к стеночке.
— Ну ты же сказал, что это мои, — невинно заметил ЭрТар, кивая на вилы в руках обережника. — Вот я и жду, пока они освободятся!
— Лови! — Джай с размаху метнул их в горца, не сомневаясь, что тот отпрыгнет. Но хотя бы миг-другой помечтал, как приятно было бы попасть. — Я свою часть работы сделал, а ты можешь это удовольствие хоть до утра растянуть.
— Хэй, так нечестно! — возмутился ЭрТар. — Я-то тебе помогал! Постой хотя бы за компанию, э?
— Нет уж, я тебя знаю — сначала постой, потом вилы подержи, потом помаши ими, раз уж все равно держишь… Фигушки! — Джай перелез через высокий порог и с наслаждением глотнул чистого воздуха. С этого горца станется свиней уболтать, чтобы они ему рылами весь навоз из хлева повыбрасывали! Кстати, жрец тоже мог бы помочь, а то поел, как одолжение сделал, Темный его побе…
Обережник с изумлением обнаружил, что тваребожцу тоже не спится. Вот только к хрюшкам он не спешил, а крался вдоль стены соседнего дома, как-то странно, словно слепой, ощупывая ее руками. Неужели не поверил, что Твари в Пригорках нет, решил сам поискать? Но на кой селищанам врать? Они, в отличие от жрецов, не самоубийцы.
В руке тваребожца что-то блеснуло. У парня екнуло сердце и согласно подкосились ноги: он вспомнил, что в байках о Твари частенько упоминались жертвоприношения в ее славу. Причем отнюдь не куриц.
Седовласый добрался уже до угла и, наполовину из-за него высунувшись, глядел на яркий контур двери едальни. Видимо, выжидал, пока оттуда выйдет какой-нибудь пьянчуга, которого легко будет оглушить и затащить в сарай.
Если жрец собирался спасать мир такой ценой, то с Джаем ему было не по пути.
Обережник сдвинул брови и, пригнувшись, решительно двинулся вперед: сначала вдоль забора, а потом, улучив момент, перемахнул через него. До злодея осталось шагов двадцать по открытому месту, но тот так увлекся, что за все время ни разу не оглянулся. Собаки, в отличие от корлисса, оставались верны хозяевам и заходились яростным лаем, что тоже играло обережнику на руку. Вскоре он уже мог похлопать тваребожца по плечу.
В едальне зазвонил колокол, заглушенный ликующими воплями: ударивший в него проставлял выпивку всем посетителям. Жрец чуть подался назад, и Джай счел, что более удобного момента не представится. Он коротко, почти без замаха саданул тваребожца в висок, припечатывая его головой к углу, и заломил руку с ножом за спину.
Точнее, попытался.
В руке у жреца был не нож.
Да и не у жреца.
И даже не в руке.
Тут-то Джай и понял, что перепутать тваребожца с моруном можно лишь ночью и со спины. Общего у них были только длинные седые космы.
Удар о стену вышел какой-то мягкий, вязкий, словно тряпичным мячом. Мертвяк тут же повернул голову и плавно, в обход телесных законов, изогнув спину и шею, впился зубами парню в локоть. Заломленная лапа моруну ничуть не мешала, более того — он все с той же неспешной грацией начал выворачиваться из захвата.
Боль пришла намного позже укуса, однако вывела Джая из ступора раньше, чем морун хлестнул его по лицу свободной лапой, «вооруженной» не то длинными полупрозрачными ногтями, не то настоящими когтями. Парень отшатнулся, разжал пальцы и ударил мертвяка по лбу (тот разжал зубы, но не от боли, а попытавшись цапнуть Джая уже за кулак), пнул в живот (нога, почти не встретив сопротивления, глубоко провалилась в растянувшуюся плоть), отскочил и только потом позволил себе заорать.
Догадаться, кем был морун при жизни, удалось бы разве что близкой родне, да и то по наполовину истлевшей рубахе. Черты лица сгладились, словно его намазали толстым слоем сметаны, в прорезях век опалесцировали вогнутые бельма, челюсти клином вытянулись вперед — еще не звериные, но уже не человеческие, с подросшими зубками. Подвижность мертвяка ограничивали только негнущиеся кости, суставы же как будто растворились. При этом ни расползающейся плоти, ни запаха тухлятины не было в помине, ходячий труп оставался крепок и свеж, как малосольный огурчик.