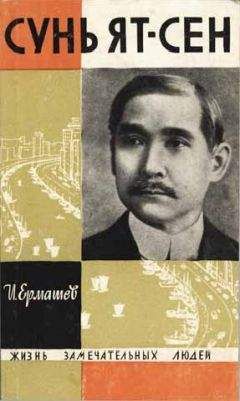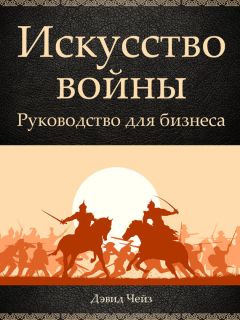В купе Легкоступов ехал один. Вагон был поделён на две части — в первой, отделанные кожей и красным плюшем, располагались четыре купе, с душем и унитазом в каждом; другую половину занимал вытянутый салон, интерьер и меблировка которого позволяли проводить здесь как военный совет, так и офицерскую попойку. Впрочем, обогащённый опытом сношений с компанией братьев Шереметевых, Петруша догадывался, что для офицерской «выпиванции» годится практически любое помещение — от девичьей светёлки, до торпедного аппарата подлодки. Одно купе в этом вагоне занимал Некитаев, второе — Пётр, третье — Нестор с пардусом. В последнем была заперта фея Ван Цзыдэн, повинная в тягчайшем злодеянии — в сердечном коварстве, в измене делу преступной любви: своевольный выход из воровской затеи, как известно, карается строго.
Отложив книгу, Петруша ополоснул над раковиной лицо, почистил зубы и причесался. Брился он раз в два дня, поэтому сегодня только освежил одеколоном щёки. В пустом коридоре, проходя по ковровой дорожке мимо Таниного купе, Легкоступов поскрёб дверь.
— Кого черти несут? — грубо поинтересовались из-за двери.
— Это я, — шёпотом открылся Пётр.
— А, Талейран, дворцовый плут, шельма придворная! Долго мне по твоей милости под замком сидеть?
— «Warte nur, balde ruhest du auch», — словами Гёте заверил Таню Петруша и перевёл словами Лермонтова: — «Подожди немного, отдохнёшь и ты».
— Это что? Ты могилу мне пророчишь, что ли?
— Я не в том смысле, — смутился Легкоступов. — Потерпи — всё пройдёт.
— А мне не нравится, когда всё проходит. Особенно, когда проходит то, что доставляет мне удовольствие. — Таня чуть помолчала и наконец подобрала самые верные слова: — И особенно мне не нравится, когда то, что доставляет мне удовольствие, проходит мимо меня.
Пётр не имел при себе таких точных слов, поэтому сказал первые попавшиеся:
— Танюша, ты же умница, вспомни — гармония нерушима, и всякое вещество, даже ментального свойства, ежели где убудет, то в ином месте умножится. Ещё Ломоносов узаконил.
— Так это он про железки в колбе.
— Нет, милая, это он про вообще. Поразмысли о ходе дел человеческих, и увидишь, что мир всегда остаётся одинаковым — дурного в нём столько же, сколько и хорошего, просто зло и добро постоянно бродяжат, кочуют с места на место.
— Ты мне лапшу не вешай! Какой мне прок в такой гармонии, где я олицетворяю тёмную, несчастливую сторону и без конца терплю унижения?
— Желания человеческие ненасытны, — вздохнул Петруша. — Бог наделил человека способностью всё желать и стремиться к самым высоким вершинам, но судьба позволяет ему достичь лишь немногого. Отсюда — постоянная неудовлетворённость людей тем, чем они уже владеют.
— Хватит ладаном кадить! — не выдержала Таня. — Если ты не расскажешь Ивану, что сам заварил эту кашу, то это расскажу ему я. И тогда — будь уверен — он тебя не то что пополам разрубит, он тебя в окрошку искрошит! А потом склеит. А потом снова искрошит!
— Хорошо-хорошо, — торопливо зашептал Петруша. — Но мне нужно ещё немного времени. Я должен убедиться, что назад он уже не отступит…
— Изволь объясниться с ним сегодня же!
Легкоступов попытался было сказать что-то ещё, но тут в конце коридора послышался шум и в дверях тамбура возник Прохор с самоваром в руках. Вагон покачивало, отчего бывшего сержанта-штурмовика вместе с раскалённой ношей кидало в узком проходе из стороны в сторону. Отпрянув от дверей Таниного узилища, Пётр любезно пропустил ординарца вперёд и вслед за ним вошёл в штабные покои, годные, как уже говорилось, для всего, в том числе и для чаепития.
Убранство салона было решено в растительных тонах: стены обиты фисташковым штофом (под цвет парадного мундира Воинов Блеска), пол застелен зелёным, с пёстрыми медальонами, ковром, на дверях и окнах с бронированными стёклами висели бутылочного колера бархатные драпри. Мебель была подобрана надёжная и немаркая: прямоугольный дубовый стол, два дивана, обтянутые зелёной кожей, и такие же, в кабинетном стиле, стулья. Если б не дорожная качка и перестук колёс, чеканящий унылую тему непостоянства, всё выглядело бы вполне основательно, а так — хоть садись и читай Золя или Боборыкина: дорогу не жалко разменивать на вздор. В пути, глядя сквозь стекло на убегающее пространство, Пётр нередко ловил себя на странной мысли: он отстранён от существа мира, отделен от его тела, и переживал свою отдельность как общую человеческую участь. Пётр чувствовал себя не материей, не веществом, но только рябью на коже вещества. Больше того, Легкоступов сознавал, что он, быть может, рябь, которой вовсе не досталось субстрата, что он обречён на невоплощённое существование, как трава, которой не хватило луга, как морщины, для которых не нашлось лица. Это было нелепо и грустно. Пётр чувствовал себя чем-то вроде опережающего эха — эха той лавины, которая никогда не сорвётся, чувствовал себя партитурой, которая никогда не будет сыграна. Однако тут, как правило, Петрушина мысль совершала отрадную петлю: он начинал думать о том, что талант в человеке виден и помимо результата, раз уж результат отчего-то не нашёл себе места в реальном мире феноменов. Иначе пришлось бы признать, что не было гениальных программистов в империи Инков. А это не так. Просто они вынуждены были заниматься другим делом — расписывать паруса плотов или вырабатывать идеологию инкского социализма. Так нынешние программисты, возможно, занимаются не своим делом, потому что для их дела ещё просто не пришло время. Вообразить морщины без лица и программиста, докладывающего великому Инке проект обустройства земель Кито, стоило труда, как вообразить смерть от укуса бабочки. Сладкоежки бабочки с хоботком, точно часовая пружина… Как вообще вообразить смерть. И в самом деле — кто она? Та самая «белая», что «дома крестами метит и кличет воронов, и вороны летят»? Та самая, у которой глаза вполне определённой детки? Стальные, как Ладога… Но тут шумы в Петрушиной голове смолкали, ибо он, в отличие от Бадняка и Педро из Таваско, не покушался на те сферы, коих ум человеческий не достигает.
Итак, Пётр прошёл вслед за Прохором в салон.
Как ни странно, Некитаев был уже тут. Хотя, что же в этом странного? Странно, что он был тут без Боборыкина. Иван сидел за столом, на котором красовалось блюдо с фаршированной щукой, и чвакал щучью голову. На тарелке перед ним уже лежала руина.
— Что ещё прикажете? — Прохор поставил самовар на стол.
— Подай баранки и прибор Петру, — велел Иван, обсасывая щучьи щёчки.
Снаружи толком до сих пор не рассвело. Шёлковый абажур с фестонами сиял лампой свечей в сто пятьдесят, отчего мартовский сумрак за окнами казался вовсе тьмой кромешной. Изредка на полустанках мелькали фонари, отчётливо высвечивая то дома под жестяными крышами, то опоры линии электропередачи, то деревья, чьи тени походили на ямы. До Порхова оставалось менее четверти часа пути.