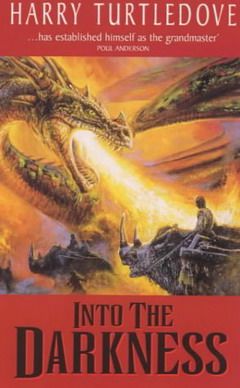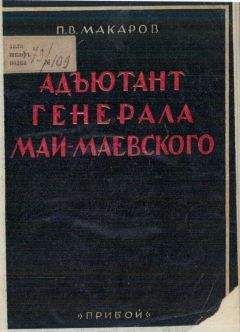Но каприз судьи оставил его в живых. Задыхаясь, он метался от обочины к обочине, прежде чем добежать до ворот, которые полагалось захватить его батальону. Другим солдатам выпало защищать ворота от нападающих. По указке судей они падали один за другим.
Ядро, которое приладил один из подчиненных капитана Ларбино, было выточено из дерева. Прозвучал свисток судьи, заменяя грохот взрыва. Пара защитников, восстав чудесным образом из мертвых, распахнули ворота, пропуская «выживших» соратников Теальдо.
За воротами опять шли узкие тропки, порой извилистые, словно в лабиринте. Все новые бойцы пытались задержать наступающих, не позволив им пройти до конца, и терпели неудачу. Снова заверещали свистки, и Теальдо устало заорал «ура!». Достаточно бойцов его батальона добралось вместе с ним до конца полосы препятствий, чтобы в настоящем бою это сошло за победу.
— Король Мезенцио и вся Альгарве должны будут гордиться вами, когда вы станете сражаться столь отважно в день, когда ваши жизни взаправду лягут на чаши весов, — объявил Ларбино. — Я знаю это. Вас не надо учить отваге, а только тому, как лучше свою отвагу применить. И эти уроки мы продолжим. Завтра мы пройдем полосу препятствий в темноте.
Усталые, но радостные крики сменились усталыми стонами. Обернувшись, Теальдо увидал рядом Тразоне.
— Входить в Бари торжественным маршем было куда как веселей, — заметил он. — По мне, эта беготня слишком смахивает на работу.
— Когда ублюдки с другой стороны начнут палить не понарошку, работа станет еще тяжелей, — предупредил Тразоне.
— Не напоминай. — Теальдо поморщился. — Только не напоминай!
* * *
Леофсиг ощущал себя не то вьючной скотиной, не то зверем в клетке. Фортвежским солдатом он уже не был — войска Альгарве и Ункерланта раздавили фортвежскую армию между собою. Под властью верноподданных короля Пенды не осталось ни клочка родной земли. Надвигаясь с востока и запада, враги пожали друг другу руки где-то к востоку от Эофорвика; пожали над мертвым телом независимого Фортвега.
Так что Леофсиг вместе с тысячами его товарищей теперь коротал время в лагере для военнопленных между Эофорвиком и Громхеортом, близ того места, где его полк — или то, что от полка осталось, — наконец сдался альгарвейцам. Он скривился, вспомнив, как щеголеватый рыжеволосый офицер оглядывал грязных, измотанных, разбитых фортвежских солдат — тех, кто смог встать в строй на официальной церемонии сдачи.
— Вы сражались хорошо. Вы сражались отважно, — сказал тогда альгарвеец, сминая протяжные звуки фортвежского, будто говорил на своем родном наречии. А потом подпрыгнул, прищелкнув в воздухе каблуками в знак выдающегося презрения. — И с тем же успехом для себя, с тем же успехом для своей страны вы могли бы остаться по домам. Подумайте об этом. У вас будет много времени на раздумья.
Он повернулся к пленникам спиной и удалился, вышагивая, словно петух.
Времени Леофсигу и впрямь хватало. За дощатым забором, в тени вышек, откуда альгарвейские часовые скорей пристрелят пленника, чем заговорят с ним, у бывших солдат не осталось почти ничего, кроме времени. Только форменный кафтан да башмаки, которые оставили пленному, да жесткая койка в бараке.
Еще у него была работа. Если пленникам нужны были дрова для стряпни и дрова для обогрева — в Фортвеге их требовалось меньше, чем в южных краях, но забывать о близкой зиме все ж не стоило, — им приходилось рубить и таскать дрова самим. Каждый день из лагеря выходили рабочие бригады под охраной альгарвейцев. Если хотели, чтобы лагерь не затопили нечистоты и не подступила холера, выгребные ямы тоже приходилось копать самим. И все равно в лагере воняло так, что Леофсигу постоянно вспоминался хлев.
Если пленникам нужна была еда, ее приходилось вымаливать у хозяев. Те выдавали муку, словно то было серебро, и солонину — как золото. Подобно большинству фортвежцев, Леофсиг был сложен точно кирпич, но с того дня, как он попал в плен, кирпич неуклонно превращался в черепицу.
— Им же плевать, — зло бросил он соседу после очередной скудной трапезы. — Им же на нас просто наплевать!
— Почему бы нет? — отозвался солдат с ближайшей койки, светловолосый и от рождения тощий каунианин по имени Гутаускас. — Если мы умрем с голоду, нас уже не потребуется кормить, верно?
Прозвучало это до такой степени цинично, что у Леофсига язык отнялся. Другой его сосед, здоровяк Мервит, плюнул со зла.
— Ты бы заткнулся да сдох лучше, чучело соломенное, — буркнул он. — Ежели б не вы, проклятые, нас бы на эту войну дрыном не загнали.
Гутаускас поднял бледную бровь.
— О да, без сомнения, — ответил он. Его фортвежский звучал без малейшего чуждого призвука, но с изящной точностью, более характерной для старинного наречия. — Король Пенда как именем, так и внешностью являет свое происхождение от древних кауниан.
Леофсиг хихикнул. Пенда был, подобно большинству своих подданных, смуглокож и крепко сбит. Имя у него тоже было самое обыкновенное. Мервит злобно глянул на своего противника; он, верно, был из тех людей, что в споре орудуют словесной дубиной, и не привык ощущать на своей шкуре рапиру сарказма.
— Да вокруг него кавнянские лизоблюды так и кишат! — рявкнул он наконец. — Мозги ему запудрили, вот что, покуда голова кругом не пошла! Какое королю дело, что там с Валмиерой и Елгавой сотворится? Да чтоб их альгарвейцы дотла сожгли! Туда и дорога!
— Да, лизоблюды при королевском дворе творят чудеса, — все так же сардонически отозвался Гутаускас. — Они нас всех одарили богатствами. Они принесли нам всеобщую любовь. Если бы на тебя одного приходилось десять кауниан, Мервит, ты бы понимал нас лучше. — Он примолк. — Хотя нет. Не понимал бы. Некоторые неспособны понимать самые простые вещи.
— Вот что мне понятно! — Мервит показал ему здоровенный узловатый кулак. — Что я из тебя сейчас дух вышибу!
Он шагнул к каунианину.
— Стой, твою так! — Леофсиг ухватил его за плечо. — Если затеешь драку, рыжики сбегутся!
Мервит едва не вырвался.
— Да им наплевать, хоть мы это чучело глумливое по стене размажем! Рыжики их сами на дух не переносят!
— В отношении солдат короля Мезенцио — чувство, могу заверить, вполне взаимное, — невозмутимо отозвался Гутаускас.
Леофсиг не ослаблял хватки, и Мервит постепенно отступился.
— Ты язык-то длинный укороти, ковнянин, — посоветовал он Гутаускасу, — а то в один прекрасный день вам, уродам, бошки соломенные в нашем лагере-то пооткручивают. И дружкам своим передай, коли соображалка осталась.