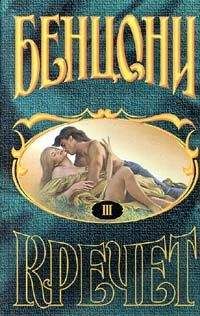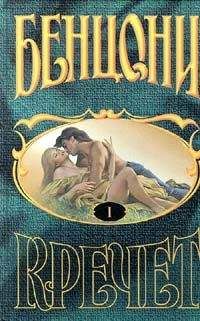Он укачивал государыню на коленях.
— Что ж ты спишь, не просыпаешься? Я шел к тебе через долы и горы. Три посоха железных истер, три пары башмаков железных истоптал… Ну пусть не железных, так еще хуже. С левого подковка потерялась, а правый пьет воду, как песок в Черте. Ну пусть я ветреный худой человек, пусть влюбляю женщин и бросаю их. Все равно жить без тебя не могу. Берег мой, прибежище мое…
Из-под ресниц Берегини выкатилась слеза.
— Жаль, снежку нет, — сползая с полка, простонал Лэти.
— А и в ручей, — Бокрин дернул стриженой головищей в сторону двери.
Они были вовсе не похожи, эти странные друзья. Худущий жилистый пограничник с опаленными Чертой лицом и руками — как в маске и перчатках из тонкой коричневой кожи, натянутых поверх молочно-белой своей, — с седыми волосами, обычно собранными в хвост на затылке, а сейчас, словно сосульки, висящими вдоль лица. И сельский колдун — Берегиня, точно подшутив, наградила даром, обычно передающимся «по веретену»[8]. Оттого и дичился Бокрин, жил вдали от поселка, где его особо и не привечали. Вид имел звероватый, стать медвежью; крепко прилегали к голове кучерявые жесткие волосы. И только глаза из-под низкого лба глядели добрые, серые, как небо в срок лебединого отлета. Одинаковые были у него и у пограничника Лэти глаза.
По холоду порысили мужчины к ручью, протекавшему под холмом, на котором банька стояла. Как раз на луке образовалась тихая заводь, куда они и свалились с плеском и уханьем, проломив ледок у берега. Порскнули в стороны ошалелые рыбки.
Роняя перемешанные с илом капли, мужчины галопом воротились в тепло, Бокрин плеснул на каменку из ковша, спугнув банника. Взвился пар. Лэти глухо закашлял.
— Терпи!
Бокрин повалил его на полок, принялся деловито охаживать дубовым веником. Не жалея и мест, где шрамы. Лэти только крякал. Раны, полученные в последнем бою у Черты, под приглядом Бокрина зажили совсем, можно и возвращаться, да только как об этом сказать.
— Да уж так и скажи, — прочитав его мысли, буркнул Бокрин. — Погоди только до Карачуна, чтоб не одному.
Лэти вывернулся из-под хлесткого веника:
— Твоя очередь. А погощу, пока Ястреб из Кромы не вернется. Вместе с… Тихо!
По-щенячьи скуля, ломанулся в банные двери здоровенный полуторагодовалый овчарище Грызь. Пахнуло холодом. Пес кинулся в ноги хозяину и заполошно завыл.
Снаружи было страшно. Небо, только вот яркое и чистое, затянуло тучами. Они ползли низкие, рваные, точно душили землю. Ветер налетал порывами, нес коричневую пыль, похожую на золу, подвывал и пересмешничал, драл крышу, колотил ветками одинокой груши-дички по банному окошечку. Першило в горле. Пригибаясь, едва не катком, спускались мужчины к дому. Вдруг Лэти ойкнул, точно обожженный изнутри:
— Нить…
Бокрин понял сразу. Лэти объяснял ему, как ходит, как не заблудится в Черте. Потому что стоит перешагнуть границу — и впереди катится, разматывая нитку, веретено: прямо, как пущенная в безветрие стрела. Дар Берегини[9] и боль. Впрочем, потому и отличаются пограничники гибкостью разума, чтобы не умереть и не обезуметь от того, что несет в себе и через себя Черта.
Они почти бежали. Именно почти. Ветер сделался так силен, что не то что говорить — дышать было невозможно. С края выгона, вдоль которого гнулись и трещали кусты жимолости и боярышника, они увидели. Помедли чуть — увидели бы только лежащие на стерне, точно облитые смолой, исхудавшие кули. А так еще какое-то время крутились перед опаленными глазами в поле смерчи черного огня и кричали. Потом стало тихо. Тучи все еще громоздились в небе, медленно отползая к югу, но пыль почти улеглась, и на дороге стала видна ивовая плетенка-тележка. Похоже, конек, выдрав дышло, сбежал в самом начале бури, по крайней мере, его не было видно. Сама тележка, несмотря на легкость, не опрокинулась. Мужчины подошли, огибая то, что сгорело. В тележке на тюках и соломе лежали два изломанных женских тела. Одежда на них была окровавлена и разорвана, обе были мертвы.
— На них напали, и они ответили, — хмуро сказал Бокрин. — Не хотел я дожить до такого. Чтобы губить красоту. И чтобы Даром — убивать.
— Кто напал?
Бокрин скользнул взглядом по смоляным кулям, пожал плечами. Они осмотрели мертвых женщин. Кроме того, что перед смертью они были молоды и красивы, нельзя было ничего добавить. Даже откуда они родом — одежда была безликая, без вышивок и тесьмы. При них также не было ни ладанок, ни оберегов. Просто ведьмы.
— Пошли.
Мужчины впряглись в тележку и медленно потащили ее к лесу, и не просто к деревьям, а туда, где, знал Бокрин, протекает ручеек. Над ручейком на вязе, забросавшем все вокруг обломанными ветками, обмыв, устроили безымянных в путь. Сладили из сучьев кладку через ручей. Призвали горлинку и сову. Оставили тележку со всем содержимым похоронщику. И неспешно побрели домой. Выполз из рябиновых зарослей, стыдясь, потрусил сзади Грызь. И вдруг, словно расплачиваясь за трусость, гневно рыкнул и снова дернул в кусты. Проломившись следом, увидели мужчины забившуюся под выворотень девчонку лет девяти. Глаза ее были выпучены, руки выставлены вперед ладошками, из уголка губ стекала слюна.
— Ох ты… — сказал Бокрин.
Грызь чихнул. Лэти же, нагнувшись, выволок пичужку из пещерки. Она была живая, но точно окаменела, и держать ее было неудобно и боязно. Платье на девчонке и меховая курточка неброской, но добротной работы были разорваны и вымараны в кровь. Бокрин завернул найдену в свою куртку и Лэти понес, прижимая к себе, ступая широко и быстро. Дома они убедились, что телом девчушка целая, только перепугалась смертно. Ее умыли, переодели в чистую рубашку Бокрина — выглядело это уморительно, только смеяться не хотелось; испачканные одежки выбросили. Попытались отпоить найдену молоком. Та не пила. Грызь крутился рядом, подлизывал пролитое молоко, вертел хвостом. Мужчины заметили, что круглые глаза девчушки оттаивают, следят за собакой… На другой день она уже и ела, и пила, и даже, подбирая рубаху, топала по дому. Только молчала. Заговорила под самый, считай, Карачун, но и тогда не сказала, ни кто, ни откуда — только слезами на расспросы заливалась. А что приключилось на поле, и вовсе побоялись спрашивать. Имени своего круглоглазая тоже не помнила. А по виду нездешняя: смугленькая, чернявая, глазищи синие.
— Как же тебя назвать, пичуга?
А она ресничками лып, лып. Ровно совушка. Бокрин погладил по встрепанной голове:
— Сова ты моя, Сирин.
А она в ответ:
— Сёрен?
…Ястреб явился прежде, чем ожидали. С ним шел сутуловатый, мрачный парень с изуродованными, обмотанными тряпьем руками. Остаться лечиться у Бокрина не захотел. И Ястреб был сам не свой. Глаза сверкали злобной желтизной, и пограничник то и дело проваливался куда-то, оставаясь с ними лишь телом. Лэти заторопился. Сёрен ходила за ним, как утенок, помогала собираться, заглядывала в глаза.