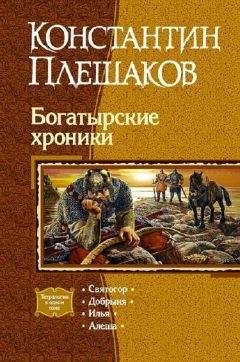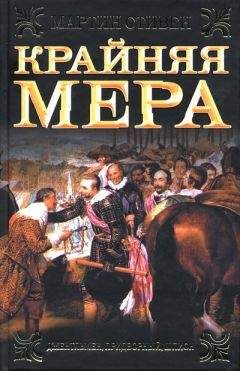Мать баловала меня. Я не слишком утруждался работой в поле, как соседские дети, как тот же Селян и его загадочная сестра. Мы мало были связаны с землей: мать ворожила и врачевала, и это нас кормило, Я был сильным ребенком, потом — сильным отроком, и вот безобразный пух стал пробиваться у меня на подбородке и на щеках, мне исполнилось шестнадцать лет, я был почти взрослым, ростом едва ли не выше всех в деревне и едва ли не сильнее всех, но совершенно не знал, что из меня будет; знахарем мать меня не сделала (я и сам не захотел), хлебопашца или рыбака из меня тоже не получалось. Я умел обходиться с землей и скотиной, но все это вызывало во мне страшную скуку. Я бродил по лесам вокруг села, удил рыбу, выезжая на озеро даже в бурю, как этого ни боялась мать, и все мне казалось, что вот сейчас наступит что-то такое, что полностью переменит всю мою жизнь. Шло время, но ничто не наступало.
Был летний день. Я сидел букой на крыльце и с тоской наблюдал за беспечальным течением облаков по небу. Я глядел то на них, то на озеро — гладкое, словно из цельного куска. В этот день я снова пребывал в дурном настроении: казалось, будто сама жизнь протекает мимо вместе с этими облаками, а я, никчемный, ничем не могу этому помешать. Жизнь казалась совершенно бесцельной, пустой, безнадежной, в который раз я уныло рисовал себе картины своего будущего, и они не утешали меня. Даже предстоящее вскоре освобождение от телесного морока не радовало. Да, скоро я стану мужчиной; но кем я буду? Пахарем? Другие улыбаются, когда плуг входит в сочную землю, а я лишь устало вытираю пот. Рыбаком? Но что за радость вытаскивать невод, полный серебряных тел, которые еще бьются. Что я мог еще? Уйти в город? Но что делать там? Ведь я ничего не умею. Да и становиться гончаром, плотником, печником, сапожником — все это меня не привлекало. Пожалуй, говорил я себе в сотый раз, я мог бы стать странником. Но — странником!
Странник — это не просто человек, который со скуки покинул отчий кров и пустился в путь. У странника должна быть цель, его должен Кто-то вести. Кто-то должен звать его из-за каждого поворота. А меня если и звал Кто-то, то я не смел верить Его голосу.
В досаде я заходил по двору, оперся на плетень и стал смотреть на дорогу, выходящую из леса.
Внезапно на дороге появилось облачко пыли. Я всмотрелся: это был всадник.
Всадник!
Он ехал не спеша, значит, не нес с собой дурных вестей. Всадники всегда волновали меня. Они приходили из незнакомого мне мира и уходили в незнакомый мне мир. Они были в моих глазах во сто крат интереснее людей, которые меня окружали. Кто он был, этот всадник? Я стал вглядываться в него. Он выплывал из пыли медленно, будто задумчиво, не торопясь въезжать в деревню. Он приостановился. И тут я понял, что это богатырь.
Я видел богатыря всего один раз в моей жизни; он торопился куда-то и пронесся через нашу деревню галопом; но он часто снился мне — пригнувшийся к седлу, весь устремленный вдаль, напряженный, но замечающий все вокруг, блистающий доспехами. О нем потом долго вспоминали в деревне. Странники, как я уже сказал, часто рассказывали про богатырей, и, когда мы увидели его вживе, то были изумлены. Но тот богатырь пронесся мимо, я не успел его даже как следует разглядеть. Теперь я смотрел во все глаза.
Он тронул коня и поехал в мою сторону. Я замер. Теперь я видел его уже отчетливо. Голубой плащ легонько развевался на ветру. Кольчуга, шлем — все блестело сизо; щит был приторочен к седлу, из-под плаща торчал широкий меч. Он ехал, как мне казалось, прямо на меня, вот я уже видел его лицо — оно наплывало на меня, как будто он склонялся надо мной: узкие серые глаза, седеющая русая борода, прямой широкий нос да очень внимательные глаза. Он смотрел на меня неулыбчиво. Я не мог от него оторваться, наконец, оторвался в досаде: сколько юнцов моих лет смотрели на него раскрыв рот! Как ему должно быть противно все это. Но я не совладал с собой и исподлобья поглядел на него снова. Он все глядел на меня, откровенно рассматривая. Вспыхнув, я выдержал его взгляд. Он стоял уже совсем рядом со мной. Как сквозь сон, я слышал голоса вдалеке — видно, ребята бежали к нам. И тут я услышал его голос — очень отчетливый голос:
— Как тебя зовут?
— Добрыня.
— Добрыня… Хорошее имя… Ты хочешь уйти отсюда? — спросил он внезапно.
Я судорожно кивнул. Он смотрел на меня пристально. Кто-то уже стоял вокруг, он смотрел на меня, я — на него.
Вдруг лицо его изменилось; улыбка появилась на губах; он смотрел куда-то поверх моего плеча. Я оглянулся: мать стояла за моей спиной, встревоженно глядя на всадника.
— Здравствуй, — сказал он, наклоняя голову. — Именем Христа — напои.
Лицо матери смягчилось.
— Здравствуй, богатырь, — сказала она, кланяясь ему.
— Меня зовут Никита, — сказал он, слезая с коня и потирая поясницу.
Мне внезапно сделалось страшно: вдруг мать слышала, как он спросил, хочу ли я уйти отсюда, и видела, как я кивнул? Но нет, он не мог спросить, если бы она стояла за моей спиной. Но почему он спросил, откуда он знал?! Я шел за ними в дом и слышал, как ребята за моей спиной шептали: «Богатырь, богатырь!» Все это было как во сне.
— А ты, — сказал он внезапно, оборачиваясь ко мне, — Добрыня, напои коня.
Я подошел к его коню; я никогда не видел столь великолепной сбруи. Завистливый шепот смолк за моей спиной, как будто конь был волшебный. Пока я распрягал и поил коня, я ничего не соображал; меня прошиб пот. Я не думал ни о чем и в то же время думал обо всем.
Когда я вошел в дом, мать разговаривала с богатырем. Она суетилась, накрывала на стол. Он снял шлем и положил рядом с собой на лавку; я никогда не видел такой прекрасной вещи раньше, и внезапно вся наша с матерью изба показалась мне такой убогой и жалкой, что я чуть не заплакал со стыда.
— Да, я был в Киеве во время крещения, — говорил богатырь. — Что тебе сказать, Ксения? Даже самое благое дело можно испортить грязными руками. Возьми стеклянный кубок грязными пальцами — и ты испачкаешь его.
«Стеклянный! — подумал я горько. — Хотел бы я посмотреть на стеклянный кубок!» (Я никогда не видел стекла, только много слышал о нем, что оно прозрачное, как вода, и твердое, как лед.)
— Нет, князь Владимир сделал благое дело, но наша с тобой вера такова, что нельзя в нее загонять силком. Правда, говорят, что детей приучают битьем, но ведь это не всех детей. Ты же не била своего сына?
— Никогда! — сказала мать с гордостью.
— Вот видишь… — Он потер лоб. — Не знаю, не знаю, не радостное это было крещение. Я-то к тому времени уже давно носил крест на груди, и, когда его вешали на кого-то насильно, — нет, это не по мне.