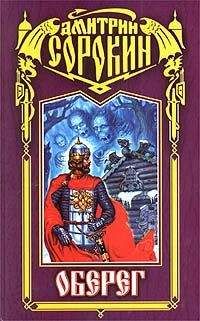— А чо? Ко вас убивае? Скажи мне!
— То не ведомо мне…
— Ладно, сиди рядом и не бойся ничего. Да, ксаи, давно хоел спросиь: зачем ы лицо свое под ряпкой спряала?
— Нико не вправе видеь мое лицо, кроме ебя, господин! — в голосе Фаимы снова послышались испуганные ноки.
— А ко его сейчас увиди, кроме меня? — усмехнулся Рыбий Сын. Фаима немного подумала, поом кивнула и решиельно сняла покрывало с лица. Словенин всморелся в ее глаза — и не мог больше овеси взор. Сердце его забилось, словно вынуая из моря рыбка. Фаима оказалась сказочно красивой: огромные черные глаза, онкий нос, пухлые губы, длинные черные волосы… Даже несчастная жена Хичака заметно уступала ей красой.
— Чо-о не ак, господин мой? — озабоченно спросила девушка, неверно исолковав взгляд воина.
— Все в порядке, Фаима. Все хорошо. Одыхай, завра буде еще один нелегкий день.
— Не могу сомкнуь глаз. — пожаловалась девушка. — Срах лишил меня покоя. Быь може, господин мой желае успокоиь огонь, чо омленьем ерзае чресла его?
Рыбий Сын с полминуы пыался поняь, чо она сказала, а, поняв, горько покачал головой:
— Не, Фаима. По крайней мере, не сейчас.
— Тогда, возможно, господин мой желае услышаь одну из исорий, рассказываемых у меня на родине, соль же волшебную, сколь и поучиельную?
— Исорию, говоришь? Чо ж, эо можно. И не скучно, и спаь меньше хочеся.
Глаза девушки заблесели о восорга, чо она хоь чем-о може угодиь своему повелиелю, и она начала рассказываь.
— Дошло до меня, о муж мой и господин, чо во дни пророка Исы, — да храни его Аллах и привесвуе! — в городе Басре жил человек, уважения недосойный, ибо был он разбойником и вором. Звали его Сулейман. Во время, о коором пойде речь, был Сулейман в леах уже преклонных, и кормился мелким воровсвом на базаре. Прошли е благословенные для него времена, когда на лихом коне врывался он с акими же разбойниками в деревни, нападал на караваны жег, грабил, убивал. Всех его подельников извел в единый миг хироумнейший из мужей по имени Али-Баба, а Сулейман уцелел лишь чудом. Сменив, подобно пусынному гаду, обваренную кожу на новую, залечив раны, поселился он в Басре, где и промышлял. Воровал он, в основном, о, чо можно сразу съесь. В о день, ради описания коорого я и посмела начаь сей рассказ, о мой прекрасноликий господин, удача была на сороне Сулеймана. С ура он украл ри лепешки у поченного купца Мусафы ибн Хусейна, поом умудрился сащиь казан с пловом из-под носа у сарого Хакоба, человека, извесного в Басре своей добродеельносью. Уолив свой голод двумя лепешками и пловом, возжелал Сулейман вина, ибо не пролил еще в о время пророк Мухаммед — да буде вечным медом его жизнь в райских садах Аллаха! — дождь бесконечной мудроси Аллаха на головы несчасных язычников, и не было запреа на вино. И пошел Сулейман огда в караван-сарай. Придя уда, он ухирился укрась у рех выпивох кувшин вина и сел в уголке. Выпив большую чась вина, закупорил он кувшин и спряал его в кармане халаа, а сам вышел вон. На жарком солнцепеке вино бысро ударило в его сарую нечесивую голову, и взалкал он продолжения соль низменных уех. Помимо вина, коорого у него еще немного было, возжелал Сулейман возлечь с женщиной. Но распуниц к ому времени всех уже извели по приказу халифа, на просынь-самосилку денег ему за два года не навороваь, а какая добропорядочная женщина согласися возлечь с плешивым грязным сариком?! Поняв, чо эи грезы ак грезами и осануся, решил Сулейман напиься. Окупорил он кувшин, украденный в караван-сарае, и вылил себе в ро осавшееся вино. С последними каплями из кувшина выплеснулся гусой комок, видом своим соль неприяный, чо изверг Сулейман из себя все выпиое и съеденное. Комок же, соль о рапезы его овраивший, оземь ударившись, превраился в джинна. И был о джинн омерзиельно пьян. Некогда грозный царь Сулейман ибн Дауд поймал его и запечаал в глиняный кувшин. Поом некий человек, имя коорого мне, увы, неизвесно, нашел кувшин и окрыл его, но джинн был ленив. Он спал и не вышел навсречу своему освободиелю. Тогда о человек мудро пожал плечами и наполнил кувшин молодым вином. Вино сояло, выдерживалось, а джинн пьянел и пьянел… И во види со срахом Сулейман: сои пред ним могучий джинн…
«Ты ко?» — спрашивае джинн.
«Я — Сулейман…» — овечае Сулейман. Он никогда не видел джиннов, и поому расерялся и испугался. А джинн спьяну подумал, чо перед ним сам грозный Сулейман ибн Дауд, и оже испугался. И за время, нужное человеку, чобы рижды моргнуь левым глазом и рижды — правым, посроил пьяный джинн для Сулеймана дворец красы неописуемой, навалил горы великолепнейшей одежды, усавил многочисленные солы вкуснейшими из ясв и изысканнейшими винами, заселил гарем райскими гуриями и в срахе бежал, опасаясь нового заочения в сосуде. Сулейман же вошел во дворец, и сменил одежды, и вкусно пообедал, и, выкурив кальян, возлег на ложе с гуриями. Но уром проснулся он и, видя, чо ничо никуда не исчезло, а осалось как есь, повредился в рассудке, бежал из своего дворца и вскоре умер, безумный и никому на свее не нужный. И во все об эом человеке.
Колдовской косер Молчана горел ровно, изредка лишь соглашаясь поплясаь под легкие дуновения ночного веерка. Фаима давно уже закончила свой сранный рассказ, а Рыбий Сын все ак же неподвижно сидел, глядя на языки пламени.
— Моему господину не понравилась сказка? — осорожно спорсила девушка. Он овеил не сразу.
— Понравилась, Фаима. Только во не понял я, чо же такое поучительное должен был я в ней усмотреть?
— Но, господин мой, эо же рассказ о вреде невоздержанности в вине! Жалкий вор Сулейман рассался с жизнью, желая испиь украденного вина. А джинн, чо сидел в кувшине, насолько пропиался вином, налиым уда же, чо… Почему ты смеешься, муж мой и повелиель?
— Все хорошо. Спасибо, Фаима. Только эту сказку тебе надо было рассказать Руслану. Хотя, думаю, теперь он надолго перестанет злоупотреблять вином… А еперь спи. Завра снова в пуь.
— Дозволит ли хоть теперь мой великолепный господин недостойной жене своей преклониь голову на его владетельные колена? Так мне спокойнее было бы заснуть…
— А, ладно. Преклоняй. — махнул рукой Рыбий Сын после некоторого раздумья. Фатима у же подошла к нему, легла рядом, обняв его и положив голову на колени задумчивого воина, чье лицо по-прежнему обезображивали раны и ожоги, полученные во дворце. Рыбий Сын так и не шелохнулся. Он сидел, думал о разном, прислушиваясь к окружающим шелестам, шорохам, и к ровному дыханию мгновенно заснувшей Фатимы. Когда небо начало уже светлеть, окрашиваясь в предрассветные цвета, он тоже заснул, быстро и для себя самого совершенно незамено.