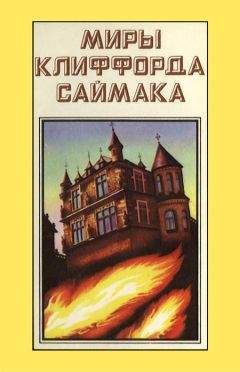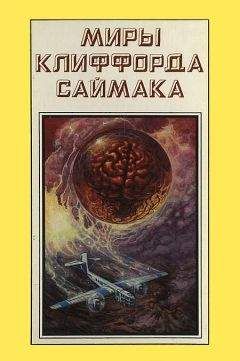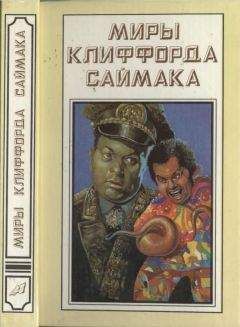— А ты не боишься, что Потрошитель узнает о твоем поступке?
— Нет, — покачал головой Седрик. — Моего отсутствия никто не заметит. Я провожу все время с пчелами, сплю на пасеке, а сегодня пришел в дом из-за холода и дождя. Они решат, что я отправился обратно к пчелам. А что до меня, сэр, то, по правде сказать, я сочту за честь служить человеку, который одолел Потрошителя.
— Он тебе не нравится?
— Я его ненавижу, но в открытую мне с ним не тягаться, так что я действую исподтишка, врежу, где получится.
— Пока давай мне, — проговорил Конрад, забирая у старика мешок. — На привале навьючим на Красотку.
— По-твоему, Потрошитель кинется в погоню? — справился Данкен.
— Не знаю, все может быть.
— Ты сказал, что ненавидишь его. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Ведь тебя здесь ничто не держит.
— Я бы с радостью, сэр, но вот пчелы…
— Пчелы?
— Сэр, вы знаете что-нибудь о них?
— Крайне мало.
— Это удивительнейшие создания! — воскликнул Седрик. — Невозможно сосчитать, сколько их умещается в одном только улье. Но им требуется помощь человека. Каждый год матка должна откладывать яйца — одна-единственная, иначе улей ослабеет, пчелы начнут роиться и разлетятся в разные стороны. Ну вот, чтобы такого не случилось, нужен пасечник, который станет приглядывать за порядком. Он будет проверять соты. Выискивать лишних маток и уничтожать их; он убьет и старую матку, если чувствует, что сможет вырастить крепкую молодую…
— И потому-то ты останешься с Потрошителем?
— Я люблю своих пчел, — заявил старик, гордо расправляя плечи. — Я им нужен.
— Пчелы, пчелы, — проворчал Конрад. — Сколько можно болтать об одном и том же?
— Извините, — сказал пасечник. — Следуйте за мной и не отставайте.
Он двигался на удивление легко и свободно, как бы парил над землей этаким призраком, шел то медленно, словно на ощупь, то вприпрыжку, то почти бежал. Следом за ним путники миновали неглубокую лощину, поднялись на холм, опустились в распадок, взобрались на гребень следующего холма. В небе над ними сверкали звезды, клонилась к западу луна. С севера по-прежнему задувал холодный ветер, однако дождь прекратился.
Данкен ощущал нарастающую усталость. Тело не желало мириться с той резвостью, на которой настаивал без слов старый Седрик. Несколько раз он спотыкался, но на предложение сесть на коня ответил отказом:
— Дэниел устал не меньше моего.
С Данкеном произошла странная вещь: рассудок будто отделился от тела. Ноги несли его вперед, через мрак и бледный лунный свет, сквозь лес, по холмам и долинам, а мысли перемещались сами по себе, неизменно возвращаясь, впрочем, к тому дню, с которого все началось.
Предчувствие того, что его избрали для выполнения некоего поручения, впервые посетило Данкена в тот миг, когда он спустился по винтовой лестнице и направился в библиотеку, где ожидали отец и его светлость архиепископ. Он твердил себе, что в желании отца увидеться с ним нет ничего необычного. Может быть. Однако, что привело в замок архиепископа? Пожилой прелат сильно раздобрел за последние годы от обилия пищи и недостатка занятий, а потому редко покидал свой монастырь. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы он взобрался на старенького серого мула и приехал сюда. Кстати говоря, этот мул, с его нелюбовью к быстрому бегу, как нельзя лучше подходил для человека, отнюдь не склонного к физической активности.
Данкен вошел в библиотеку, просторное помещение, вдоль стен которого, от пола до потолка, выстроились книжные полки; в окне — витражное стекло; над очагом, где жарко пылало пламя, голова оленя с ветвистыми рогами. Отец и архиепископ сидели в креслах, вполоборота к огню, и оба встали ему навстречу, причем даже столь незначительное усилие далось церковнику с немалым трудом.
— Данкен, — сказал отец, — у нас гость, которого ты должен помнить.
— Ваша милость, — проговорил Данкен, торопливо подходя поближе, чтобы получить благословение. — Я рад вновь встретиться с вами. — Он опустился на колени. Архиепископ перекрестил юношу и сделал рукой символический жест, как бы помогая Данкену подняться.
— Еще бы ему меня не помнить, — заметил он, обращаясь к отцу юноши. — Мы с ним попортили друг другу достаточно крови. Сколько сил пришлось положить наставникам, чтобы втолковать разным неслухам хотя бы начатки латыни, греческого и прочих предметов!
— Ваша милость, — осмелился возразить Данкен, — учиться — такая скука! Какая мне польза от латинских глаголов…
— Рассуждает как дворянин, — сказал архиепископ. — Все они, когда приезжают к нам, принимаются жаловаться на латынь. Однако, надо признать, что ты, невзирая на свое нежелание, оказался способнее многих.
— Я согласен с вами, — буркнул отец Данкена. — Мы прекрасно обходимся безо всякой латыни. Вы там, в монастыре, просто морочите ребятам головы.
— Возможно, — проговорил архиепископ, — возможно, однако ничему иному мы научить не можем — ни как правильно сидеть на лошади, ни умению владеть клинком или обхаживать девиц.
— Забудем, Ваша Светлость. Чем подначивать друг друга, давайте лучше займемся делом. Слушай внимательно, сынок. Это напрямую касается тебя.
— Понимаю, сэр, — отозвался Данкен. Он дождался, пока сядут старшие, и лишь тогда сел сам.
— Кто скажет ему, Дуглас? — спросил прелат, поглядев на лорда Стэндиша.
— Вы, Ваша Светлость. Вам известно больше моего. К тому же, у вас и язык подвешен что надо.
Архиепископ откинулся на спинку кресла и скрестил пухлые пальцы рук на своем округлом животике.
— Два года тому назад или около того, — начал он, — твой отец принес мне манускрипт, который обнаружил, разбираясь в фамильных бумагах.
— Там накопилось столько хлама, — подал голос отец Данкена, — что я не выдержал. Ценные документы лежали вперемешку с теми, которые давным-давно следовало выкинуть. Старые письма, записи, дарственные, акты были как попало понапиханы в коробки и завалены совершенно посторонними предметами. Разборка продолжается до сих пор. Временами попадается такое, что приводит меня в полнейшее замешательство.
— Он принес манускрипт мне, — пояснил архиепископ, — поскольку тот был написан на неведомом языке. Твой отец не знал этого языка, что ничуть не удивительно, ибо таковым знанием могут похвастаться лишь немногие.
— Выяснилось, что язык манускрипта — арамейский, — прибавил лорд Стэндиш, — тот самый, на котором, как меня уверяли, говорил Иисус.