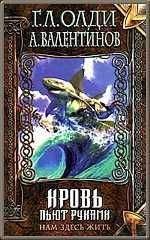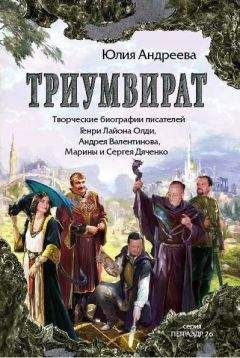Иду на ватных ногах.
Остальные делают вид, что ничего не произошло. Один Ерпалыч все время озабоченно косится на меня, и во взгляде старого хрена проблескивает золотое шитье, отсвет трассирующих пуль в просторе запределья.
Выбираемся… выбрались.
Дышите глубже.
Здесь на удивление светло, словно белой ночью в Питере… нет, не так, да и не был я никогда в Городе-на-Неве. Действительность напоминает выведенный на полную яркость монитор, когда игрушка-стрелялка сделана слишком темней, и в подземельях иначе ничего не разобрать! Все кажется неестественно отчетливым, несмотря на темноту, — и одновременно плоским, картонным, будто наспех собранные театральные декорации.
Алтарными огнями чадят развороченные руины голицынских погребов, из этих завалов один за другим выбираются люди в камуфляже, кого-то выносят… Пахнет смертью. Пахнет прощальным оскалом треугольных зубов, кровью и тоскливой обреченностью.
Мир вывихнул сустав; и в. этот год был прислан я, чтоб вправить вывих тот… кажется, так. Или почти так. Вывих вокруг — и внутри меня; мир перестал быть прежним, когда Большая Игрушечная разом вышвырнула на Выворотку тысячи и тысячи душ, отчаянно цеплявшихся до последнего за свои повседневные мелочи; мир перестал быть прежним, когда взрыв фугаса здесь, в Малыжино, пополнил Выворотку десятками душ. новых, с их страстью жить или хотя бы выжить. Они исчезли отсюда, они остались здесь — и мир опять изменился, как меняется ежесекундно, от взрыва к взрыву.
«Вчера» больше никогда не будет похоже на «сегодня»; да и раньше было не очень-то похоже. Жаль, кроме меня, никто этого не замечает. Даже Ерпалыч. Даже кентавры.
— …Нам надо спешить, Ефим Гаврилович, — Наденька пытается держать себя в руках, но видно: она уже на пределе.
Фима молча берет ее за руку; они делают первый шаг навстречу людям в камуфляже. Шаг дается с трудом, словно воздух загустевает жидким асфальтом — но они все-таки отыгрывают у пространства этот шаг.
Второй шаг дается значительно легче; третий, четвертый, пятый…
Фима на мгновение оборачивается:
— Если оправдают — приду к тебе, и вместе напьемся, — попытка улыбнуться проваливается с треском, но Фима-Фимка-Фимочка повторяет попытку. — А если посадят, будешь передачи носить! Бульон, апельсины… не то выйду!..
Он показывает мне кулак и ухмыляется на этот раз почти весело.
Сил на ответную улыбку у меня нет. Мы просто стоим — и смотрим им вслед. Молча. Недоброе предчувствие ворочается внутри меня пробуждающейся от спячки коброй, извивается, скользкими кольцами поднимается вверх, к самому горлу, наглухо забивая его раздувшимся клобуком, — и мой крик, рвущийся наружу, бессильный, отчаянный крик опаздывает, безнадежно опаздывает, хотя нет теперь никакой разницы: крикни я мгновением раньше или позже.
Нет.
Разницы.
Не-е-ет…
Прямо из кирпичных стен полуразрушенной церкви одна за другой выскальзывают наружу белесые тени, вытягиваются, распластываются в воздухе Дикой Охотой — и на какой-то миг мне кажется, что сквозь призрачную собачью оболочку, сквозь оскаленные человеческие лица проступает иной облик: мерцает, шевелится масса бледных червей-щупалец, силится прорвать личину, извергнуться наружу, вцепиться в жертву, присосаться мириадами жадных ртов…
— Фимка!!! Беги!!!
Фима оборачивается, и лицо его мгновенно застывает, скованное маской смертного холода. Бежать поздно — он это знает. И я знаю, но всё равно бегу, заставляя вату ног комкаться последним усилием, бегу туда, к моему другу, к замершей рядом с ним женщине и вылившейся из церкви своре Первач-псов.
Свора успевает первой; вот псы рядом с намеченными жертвами, вот вожак вырывается вперед, прыгает… безразлично минуя статую Крайцмана, громадный четвероногий -палач неумолимо движется к парализованной ужасом Наденьке…
И за спиной вожака взрывается Фима-Фимка-Фимочка.
По-другому это назвать нельзя.
Я никогда не слышал, чтобы кому-то удалось сбить атакующего Первач-пса. Рассказывали, будто отдельные жертвы пытались сопротивляться, но их удары проходили сквозь преследователей, не принося «психозу Святого Георгия» никакого вреда — зато человеческие зубы псов мертвой хваткой смыкались на горле, не оставляя видимых после повреждений, но… Пашка — не в счет. Он дрался с Первачами на Выворотке, да и не был Пашка в тот момент человеком.
Я молюсь о невозможном; и Фима делает невозможное.
Истекая воем и натужной пеной, Первач-пес кувырком отлетает в сторону, так и не дотянувшись до женского горла.
Я уже не бегу — на плечах у меня повисли, Фол с Папой, а проклятые ноги, протащив кентов еще два-три шага, отказались повиноваться.
Стою и смотрю.
Я — лишний.
Господи, за что?! За что — Фиму?! Ведь ему не отбиться одному от всей своры! Они же… в клочья, в куски парного мяса!.. Господи, спасибо, что этого не видит Фимкина мать! Ей нельзя такое видеть! Никому нельзя… Но отвернуться нет сил, а перед глазами встает искаженное невыносимой болью лицо тети Марты — когда она узнает… Болью? Нет! Не болью — яростью, обжигающим гневом матери, способной, защищая своего сына, совершить невозможное голыми руками… чужая ярость волной опаляет меня, из горла вырывается хрип…
Отчаянный визг тормозов. И перекошенное, безумное лицо Марты Гохэновны — то самое лицо, которое я секундой раньше так ясно видел перед собой. Лицо дергается в сторону, я плохо понимаю, что происходит здесь, что — там, я вообще ничего не понимаю, я, смешной бог без машины, я могу только стоять и смотреть на чужое-знакомое лицо, а рядом выпрыгивает из-за руля бешеный Ритка с пистолетом в одной руке и палашом в другой.
В этот самый миг свора сбивает Фиму с ног, погребая под собой.
Вопль, от которого сердце превращается в тающий снежок, безжалостными ладонями бьет по ушам; груда тел шевелится, вспухает ростками червивых щупалец, мерцающих холодным светом, пистолет в руке Ритки дергается раз за разом, плюясь синим огнем, но грохота выстрелов почему-то нет — лишь небывало вздрагивают в ответ собачьи тела и человеческие головы, когда в них ударяют смешные пули; застывший миг плывет, плавится — и в него, в сумасшедший огрызок сумасшедшего времени, в груду тел врезается воющий зверь, который еще мгновение назад был пожилой женщиной.
Обойма у Ритки кончается, он отбрасывает пистолет прочь, взмахивает палашом — и рубит, рубит Егорьеву стаю, когда белоснежные псы, судорожно теряя привычный облик, с визгом летят в разные стороны, под прямое лезвие, заточенное согласно уставу. Холод вырывается наружу из проломленных грудных клеток, из разодранных ртов, дико вывернутых лап — тетя Марта рвется к своему сыну, ей все равно, кто перед ней, кто стоит на пути… груда тел наконец распадается, метет последним февральским бураном, тонет в кирпичной кладке церковных руин… и зверь-убийца с разбегу падает на колени, склоняясь над лежащим Фимкой, на глазах снова превращаясь в человека.