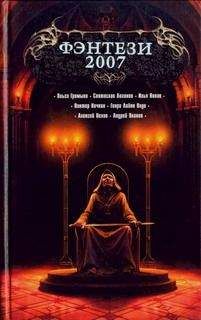— Ну, так Новый год… — последовал неловкий ответ.
Миклош нахмурил брови еще сильнее. Беда с этим молодым поколением. То им кинотеатр подавай, то бассейн, то детские утренники устраивай.
Но он понимал, что без балагана подчиненным будет скучно. Чайлды должны развлекаться. Им требуется хоть какой-то досуг.
— Поставьте у входа. И на этот раз никаких хлопушек! Лучше обеспечь их кровью и бабами. Чтобы всем хватило. Только не забудь проследить, чтобы прибрались после кутежа. Да, вот еще… передай, если в кровь будут подмешивать какую-нибудь дрянь, оторву голову. Ясно?
— Да, нахттотер.
— Кроме того, потрудись проверить все водосточные трубы в доме.
Слуга выглядел удивленным:
— Трубы…? Но зачем?
— Ясное дело, потому что я это приказал! — рявкнул Бальза. — Шевелись!! Я не желаю, чтобы из-за твоих тупых вопросов здесь разразился всемирный потоп!
Проклятый сон! Того и гляди, станешь параноиком!
Оставшись в одиночестве, Миклош задумчиво постучал пальцами по столу. Его волновало присутствие сестры в Столице. Слуги Фелиции привезли мятежников в особняк недалеко от Семеновской набережной. Оказавшись в этом милом, уютном гнездышке, отступники затаились.
Что же дальше? Рискнут ли они сделать первый шаг?
Ненавистная мормоликая пытается перебежать дорогу. Интересно, как она собирается использовать Хранью? Сместить нахттотера руками мятежников и поставить над тхорнисхами своего болванчика?
Миклош выдвинул ящик стола, достал стопку чистых листов и остро отточенный карандаш. Задумчиво крутанул его между указательным и средним пальцем…
Утро не торопилось захватывать небо и пронзать его солнечным светом. В зимнее время солнце всегда ленивое и сонное. Благодаря этому, кровные братья ведут гораздо более активную жизнь, чем летом.
Ночь еще не закончилась, когда Миклош исчеркал листы сложными и, на первый взгляд, непонятными фигурами. Однако стоило присмотреться к художественной неразберихе, как из многочисленных штрихов проступали настоящие картины. Парусник, над которым зависла огромная серая волна. Площадь с виселицей и черепичными крышами окружающих ее домов. Тележное колесо. Отяжелевший от съеденного ворон на поле брани. Старая церковь с обломанным крестом. Лицо Храньи…
Бальза думал.
Подобное рисование было для него подспорьем в работе мозга. Побочным эффектом, неизменно отправляющимся в корзину для бумаг.
Взяв со стола колокольчик, господин Бальза позвонил. Не глядя, сгреб свои художества, скомкал.
— Да, нахттотер? — в комнате появился Роман.
— Ты позвонил Норико?
— Да, нахттотер.
— Когда она прилетает?
Дворецкий поклонился:
— Она уже здесь, нахттотер.
— Хорошо.
Господин Бальза вздохнул и устало потер гудящие виски.
В центральном холле, рядом с огромной вазой, горделиво кичащейся алыми орхидеями, притаились три небольших чемодана. В креслах у журнального столика расположились двое тхорнисхов. Один — высокий, смуглый и широкоплечий: лучшая кровь Эстремадуры,[26] уроженец Бадахоса, потомок самым отчаянных конкистадоров Испании. Другой — тонкий и жилистый, узкоглазый и тонкогубый: сын старой Осаки, рожденный на берегах Иодогавы.[27]
Едва увидев Миклоша, они степенно, без суеты, поднялись, подчеркнуто вежливо согнулись в официальных поклонах, и замерли, дожидаясь, когда им позволят выпрямиться.
Что ни говори, Норико превосходно вышколила охранников.
Их настоящих имен Бальза не знал. Мало того, что ему это было попросту не интересно, так еще и их хозяйка, развлечения ради, чуть ли ни каждый год меняла слугам прозвища. Нахттотер помнил их как Каина и Авеля, Содома и Гоморру, До и После, Тигра и Ефрата, Пса и Кота, Верха и Низа, Дайто и Сёто.[28]
Могли быть и другие звуковые обличья, не менялась лишь суть — слуги оставались исполнительными и преданными. Два превосходных мага-телохранителя Норико ради нее были готовы выбраться даже на солнце.
— Роман! — крикнул Миклош и, подняв голову, увидел на балконе второго этажа выглядывающего слугу. — Подготовь комнаты для гостей. Обеспечь их всем необходимым.
— Благодарим за заботу. Для нас это большая честь, нахттотер, — ни на дюйм не меняя поклона, тихо прошелестел японец.
— Где госпожа Норико?
— Ожидает в вашем кабинете, нахттотер. — Испанец также соблюдал этикет и не поднимал головы.
Миклош, благосклонно кивнул, поднялся по лестнице, но они не выпрямились до тех пор, пока глава клана не скрылся из виду.
Ее присутствие он почувствовал еще в холле, когда разговаривал со слугами. Но теперь, приближаясь к кабинету, Бальза ощущал все более уловимый, дразнящий аромат духов. Утонченный, легкий, пьянящий цветочный коктейль. Поначалу это были свежие ноты жасмина, вплетенные в бергамот. Затем на их место пришли фрезия, японская жимолость, лепестки апельсинового дерева. И, наконец, возле двери он настиг последнюю ноту этой приятной симфонии — розовый мускус, сандал и кашемировое дерево.
Миклош знал, что она будет делать, когда он войдет, хотя не видел японку последние пятнадцать лет. Разумеется, смотреть в окно.
Так и случилось. Норико стояла, сложив руки на груди, и любовалась летящими снежинками. Девушка была облачена в бирюзовое шелковое платье. По его подолу вился орнамент — ветви цветущей сливы, «…символ весны в японском искусстве», — припомнил Миклош.
Узкий подбородок, удивительно выразительные губы, миндалевидные темно-карие глаза, в которых нет-нет, да проскальзывали странные золотистые искорки. Прямые, тяжелые, черные блестящие волосы. Ногти на руках оказались выкрашены в тон волосам. От висков на грудь падали два длинных локона.
Он скорее почувствовал, чем увидел ее улыбку.
Луна или утренний снег. Любуясь прекрасным, я жил как хотел…
— …вот так и кончаю год,[29] — закончил Бальза. — Очень точно подмечено, Норико. Год на исходе. Ты, как всегда, оригинальна в своих приветствиях.
— Вы льстите своей скромной ученице, господин.
Улыбались лишь ее глаза, но она была рада его видеть. Миклоша всегда удивляло это — почтение к учителю у японки было беспредельным.
«Традиция, — лениво подумал нахттотер. — Путь бусидо. Изысканность, беспощадно разящий меч, философия фатализма. И абсолютная преданность.
Предсказуемо, скучно, но надежно».
— Мои дайсё[30] не причинили вам больших хлопот?
— Дайсё? — Миклош поднял светлые брови, одновременно жестом приглашая женщину сесть в кресло. — А… Ты о своих ручных собачках? Как их зовут на этот раз?
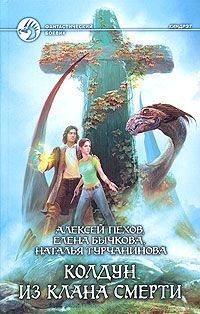

![Алексей Пехов - Фэнтези 2007 [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/46756/46756.jpg)