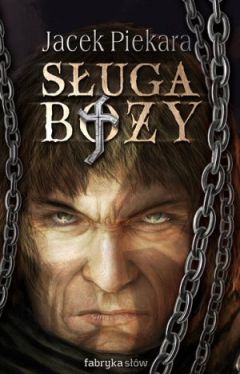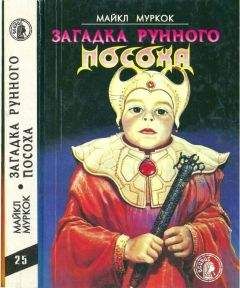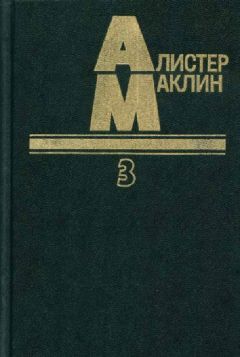Шык, а следом за ним и остальные в почтении склонились перед богиней, а Магура, чуть шевельнув точеной шеей, заговорила, и голос ее, звонкий и звучный, неожиданно понравился Луне, задел что-то в молодом роде, затронул какую-то струнку в душе его.
— Зравы будьте, честные странники. Приветить вас хочу во владениях моих. Не бродилами бездомными, а гостями дорогими принять вас желаю, и вас прошу держаться так же. Заходите в палаты мои, за столы садитесь, вкусите явств, питья, а после разговор заведем, себя и тех, кто живет у меня, потешим. Не бойтесь, надолго не задержу вас я.
Путники вновь поклонились Магуре, благодаря ее за приглашение. Потом заговорил Шык, и Луня резанул его хриплый, резковатый и изредка дающий петуха старческий голосишка, что в стравнении с голосом богини на скрип колодезного ворота был похож.
— Благи дарю тебе, о Магура-Воительница, за приглашение твое лестное, и от себя, и от спутников моих. Дела спешные ждут нас, и времени в самый обрез, а посему не властны мы над собой, долг висит на нас камнем тяжким, и покуда не сполним мы его, не снимем камень с души, нет у нас воли ни гостевать, ни есть, ни пить в удаль свою. Отпусти ты нас, о дева ратолюбая, Дорогу Небесную повороти на старый ее путь, и возблагодарим мы тебя от всей души…
— Я у стола вас жду! — спокойно, не повышая голоса, оборвала волхва Магура, повернулась, плеснув крыльями, и поплыла в глубь палат, куда-то в залитую ярким светом зальную даль, давая понять, что разговор окончен, что как бы не заметила она дерзость волхва, отважившегося перечить ей в ее же владениях, но сошедшиеся над точенным носом чуть сильнее, чем обычно, брови, плеснувший в глуби прекрасных глаз гневный пламень красноречивее всяких слов сказали путникам: Магура отказов не терпит, и прогневать ее очень просто. А уж в гневе-то она страшна, про то каждый род с пеленок знает…
Шык обескуражено поглядел вслед богини, потом нахмурился. Но тут вмешался Зугур:
— Ты это, волхв… Не серчай особо, может, обйдется еще. Давай сходим туда, посидим, перекусим, послушаем, чего надобно хозяйке. Она ж говорила надолго не задержит.
— Нельзя идти туда! — вспыхнул вдруг Шык, тряхнул вагас за ворот кожуха, повернул к себе: — Кто в Славные Палаты попадет, тот назад уже не выйдет, никогда не выйдет, понимаешь? Заманивает она нас, со злым умыслом заманивает.
— Ну почему со злым-то? — спросил Зугур, смущенно переминаясь с ноги на ногу — богиня понравилась вагасу и ему хотелось увидеть ее еще. Шык понимающе усмехнулся, но на вопрос ответил:
— Потому, что если б Магура зла в себе не держала, она б на нашей стороне была, и в Битве Богов билась бы со всеми светлыми богами людскими.
— Дяденька, Зугур, поворотитесь-ка… — негромко окликнул спрощиков Луня, что стоял с Руной немного позади, на пару ступенек ниже. Волхв и вагас обернулись и увидели на лестнице, чуть ниже, шагах в десяти, шестерку полканов с натянутыми луками в руках. Наконечники стрел, горящие золотым, были направлены на людей, и позы, и выражения ликов полканьих говорили как бы: «Лучше подчинитесь, а не то…»
— Ну вот, Зугур, теперь доволен будь — выбора у нас не стало. проговорил волхв усталым и обиженым голосом и первым шагнул через порог, ступая на полированный камень пола Славных Палат.
* * *
Путники шли по огромным, поражающим своим убранством, залам и горницам, залитым идущим отовсюду ярким светом, пред ними бесшумно открывались створки высоченных внутренних врат, дверей, разъезжались златотканные занавеси, и все дальше и дальше, в самую глубь палат Магуры уходили они, и все сумрачнее, все настороженнее и суровее становилось лицо волхва…
Наконец, после того, как путники, минув огромный и сказочно красивый зал, вошли через высокую, стрельчатую арку в длинную горницу, увидали они длинные столы, крытые желтыми с красной каймой скатертями, у столов скамьи без спинок, шкурами разных зверей укрытые, а вокруг — сотни каменных и бронзовых поставцов, в которых горели факела.
Столы были уставленны явствами, и чего только тут не было!
* * *
Не так, чтобы уж очень часто, но приходилось Луне в родном городище бывать на пирах разгульных, на тризнах, кои иной раз и свадебные пиры превосходили, и повидал, как он сам думал, молодой род немало кушаний всяких, на вкус дивных, и в приготовлении тяжких, большого ума, труда и искусности от стряпух требующих.
Но то, что тут, на столах в Славных Палатах увидал Луня, поразило его, до глубины душевной и до самой последней телесной жилки проняло, и захотелось пуще жизни Луне усесться на скамью широкую, на шкуру мягкую, и отведать…
Сперва, пожалуй, вон, осетра копченого, жиром истекающего, с лучком, что кружочками нарезан и вдоль шипастого рыбьего бока уложен.
Потом рябца, в молотых травках обваленного и на вертеле жаренного, поглодать, черемшой квашенной заедая. Но это все так, для затравки. Подзакусив малость, хмельного взвара пенистого отхлебнуть было б не плохо, от души отхлебнуть, ендову ополовинив.
И вот тут-то за главное кушание браться, за кабана, капустой с яблоками набитого. Отхватить ножом застольным кус поболе, с жаренной корочкой, соком обливаясь, в мису его перетащить, и умять, тушеной капустой заедая. А потом еще один, и еще, и только после пятого ломтя передых можно сделать, пенистого взвара глотнуть, пару лепех, в масле жареных, съесть, в сметану их макая, утереть губы рушником, и почуяв впервые за долгие семидицы малокормной походной жизни приятное тепло, что расползается из набитого доброй едой живота по всему телу, веселя голову и согревая сердце, привалиться плечом к сидящему рядом вою, дружиннику, побратиму, с коим немало пройдено дорог, немало порублено ворогов, и запеть в склад да лад песнь войскую, мужескую, деяний прошлых и будущих достойную…
Луня воткнул нож в недоеденный кусок кабаньего окорока и запел, а бородатый вой справа, размахивая недогрызенной оленьей ногой, подхватил, а следом грянула и вся дружина, что пировала за столами:
Ой, то не соколы, не соколы летят,
И не волки рыщут в поле широком.
То выходят рати родские в поход,
Постоять за землю родную идут!
Постоять за землю родную идут,
Да за род свой, за любавушек своих,
За детишек, за отцов и матерей,
Что бы в мире и покое им жилось!
Что бы в мире и покое им жилось,
Надо ворога коварного прогнать,
В сече лютой неразумных вразумить,
Зареклись чтоб наши земли воевать!
Всем полягшим родам — слава и почет.
Их деяний не забудет Род-Отец.
Их деяния бояны воспоют,
А мы выпьем поминальную за них!
«Вот она, жизнь войская!», — расслабленно подумал Луня, чуть ли не слезу пуская: «Битвы, походы, пиры, слава и почет. Эх, что ж я раньше-то…»