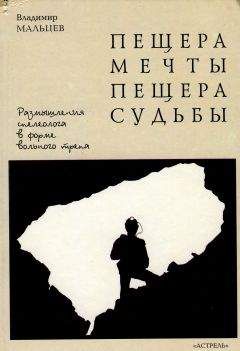Так никогда не поступали с телами людей, не говоря уже о павших эльфах. Мы, рыцари Государыни, должны были ненавидеть врагов Пущи, но уважать их — если те, разумеется, были не орками. Общий тон велел быть снисходительно-просветленным, надменно-вежливым, общий тон велел оказывать мертвым врагам подобающие почести — если те, разумеется, были не орками. Об уважении к оркам было бы дико даже подумать. Их яростная отвага в бою воспринималась, как одержимость, их тактика, их боевой талант почему-то считались воплощением всей дурости мира, вне зависимости от исхода боя, их победа называлась торжеством Зла и грязными чарами, их поражение — естественным ходом вещей. Я не помню, чтобы кто-нибудь, из людей ли, из эльфов ли, остановил руку с мечом, занесенным над раненым. Впрочем, орки не сдавались, вероятно, понимая, что их судьба — лишь победа или смерть.
Зато я помню умирающих, брошенных в костер живыми. Я думал, что душевная боль, которая чуть не убила меня осенью, больше не вернется, но тут, около этого погребального костра, не оплаканного, без воинских почестей, еще полного обгорелых костей, которые не удосужились прикрыть землей — эта боль снова зазубренным лезвием врезалась под ребра. Я задыхался от стыда. Общий тон велел оказывать милость к любым падшим — разумеется, не оркам. Общий тон велел не рубить для костра живого дерева, не снисходить до гнева на животных, избегать всего, хоть чем-то напоминающего жестокость — но орков все это не касалось никаким краем. Рыцари Пущи хвастались убийствами орков, как никогда не посмели бы хвастаться охотничьими трофеями, боясь обвинения в кровожадности. Мы были такими светлыми, такими высокими, такими чистыми, что эта горняя высь и чистота вошли в поговорку у людей — никто не замечал нашей темной стороны, наша темная сторона считалась светлой, наша жестокость считалась благом, люди были готовы ей подражать. Мы ведь были жестоки только с орками, Эро Великий, Варда, Дева Запада, больше ни с кем, только с орками!
Когда Паук тронул меня за локоть, я вспомнил, куда и зачем мы шли. Я поднялся с колен. Мне хотелось снять плащ и укрыть им кости бойцов, умерших за свои горы. Мне хотелось выть в голос, я прокусил губу, пытаясь выглядеть хоть немного достойнее. Я постарался вытереть слезы понезаметнее — стыдные, стыдные слезы, сопли, распущенные задним числом, когда уже ничего нельзя исправить…
— Это было давно, — сказал Паук, когда я осмелился на него посмотреть. — И это сделал не ты.
— Это ничего не значит, — возразил я. — Паук, я такое делал, и хуже делал… Я — Эльф, ты сам знаешь. Мне, вероятно, никогда не получить другого имени. Вернувшимся из Пущи очень тяжело снова жить среди живых существ.
— Может, у тебя и будет другое имя, — сказал Паук. — Я понимаю, что Эльф — это ужасно обидно.
Я только махнул рукой:
— Да на что уж мне обижаться…
Задира и Шпилька принесли цветущий багульник, вереск и сосновые ветки, чтобы прикрыть кости — и я рвал папоротник, режущий ладони, укрывал им кострище и думал, что это единственно возможная попытка Эльфа высказаться перед тенями погибших и хоть отчасти вернуть себе веру в справедливость…
…Мне не хотелось ни с кем разговаривать, когда синим молочным вечером того же длинного дня мы шли по проезжему тракту. Мне казалось, что ребята просто не могут не вспоминать о моем прошлом. Я думал о Топоре, слишком молодом для настоящего вожака, взявшем ответственность за остатки клана по отчаянной необходимости, как это сделал Нетопырь — как он отбрасывал пятерней назад короткую сивую челку и тер подбородок с длинным, плохо зажившим шрамом. Еще я думал о погибших товарищах Топора и о его выживших друзьях, о Ноже, ровеснике Задиры, с рваным ухом и вечной кривой ухмылочкой, о Жженом с багровым пятном старого ожога на осунувшейся хмурой физиономии, о Выдре, взъерошенной девчонке с откушенными фалангами мизинцев…
Я почти не смотрел вокруг. Взошедшая луна слишком нежно золотила молодую листву, свежий ветер благоухал слишком сладко, а дорога слишком гладко стелилась под ноги для моих мрачных мыслей. Я впал в непозволительную рассеянность, из которой был выведен чувствительным пинком Паука.
— Проснись, Эльф, — сказал он. — Не видишь, что ли?
Я поднял глаза от дороги. На обочине, весь увитый вьюнком, сахарно белел в вечернем сумраке памятный знак Пущи. Мраморный воин, безупречный в своей надменной красоте, простирал к луне руку, вскинутую в приветственном жесте. Работа восхищала искусством: мастера Пущи сумели точно передать и атласную гладкость кудрей, и мягкие складки плаща, небрежно накинутого на плечи воина, и бесстрастный покой прекрасного юного лица… На точеном постаменте, шелково-нежном, красовалась золоченая надпись: «Эти горы будут свободны от сил Мрака и Зла».
— Вот гады! — воскликнул Задира, тряся кулаком. — Это точно недавно, не может быть, чтобы давно тут было!
— Недавно, недавно, — кивнула Шпилька. — Осенью, наверно. Поубивала бы…
Паук, прикусив верхнюю губу клыком, мерил статую брезгливым взглядом. Я тронул его за плечо:
— Великолепная работа, да?
Он обернулся ко мне, взглянув, как в первый раз:
— Этот эльфийский мертвяк? Однако расползаются, как вши… Еще кровь не успела свернуться, а они уже приперли сюда этого истукана…
Я слегка смутился льдом его тона.
— Конечно, им не следовало его тут ставить, — произнес я примирительно, — но, если отвлечься, хорош ведь?
Паук пожал плечами. Задира фыркнул, а Шпилька подобрала комок подсохшей грязи и швырнула в лицо статуи, расплющив его грязной кляксой на белоснежной скуле:
— Да ты что, Эльф, скажешь тоже! Хорош! Да, это они умеют: выделывать пуговички, шнурочки, тряпочки, все неживое — старались, сразу видно! Но ты на морду его погляди! Ты на тело погляди! Мертвяк мертвяком, прав Паук. Чурбан с тупой харей — тошно смотреть!
— Шпилька! — озарило Задиру. — А давай ему башку открутим? Мордой в грязь, чтоб поняли, когда увидят?
Шпилька воинственно взвизгнула и подхватила с обочины сухую палку толщиной с оглоблю:
— Давай! Легко!
Когда она замахивалась, я дернулся вперед, чтобы остановить ее руку, но тут вдруг неожиданно для себя увидел статую так, как видят ее арши. Для них не существовало человеческих критериев; лицо, фигура, осанка статуи не совпадали с их стереотипами прелести или возвышенности — а больше ничего в ней не было. Ни грана живой непринужденности, так отличающей орочьи скульптуры, ни малейшего намека на живое вообще совершенно не виделось в этой необыкновенно тщательной работе; помпезная, выверенная, статичная поза дополнялась отсутствующей миной идеализированного лица — без пор, шрамов, морщин, без малейшей индивидуальной черты. Лощеная, пафосная, избыточная красота вдруг показалась мне, так же как моим спутникам, необыкновенно противной — как холодное насилие над естеством.