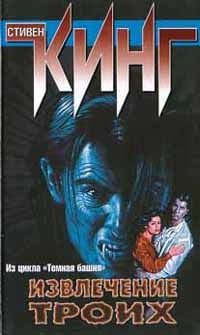Никакого «мы».
Никаких марширующих многотысячных толп.
Только одна Роза Ли Паркс, чьи слова дали толчок приливной волне: Никуда я не пойду.
Одетта еще подумала: Если бы только и я смогла сделать что-то подобное — если бы я смогла быть такой храброй, — я, наверное, была бы счастлива до конца своих дней. Но такое мужество не по мне.
Она прочитала о Розе Ли Паркс в какой-то газете, но поначалу это не вызвало у нее интереса. Интерес рос постепенно. Трудно сказать, когда и как именно это потрясло и воспламенило ее воображение — первый, почти беззвучный толчок расового потрясения, которое всколыхнуло весь юг.
Около года спустя один молодой человек, с которым она встречалась более-менее регулярно, начал возить ее в Виллидж, где несколько молодых (и преимущественно — белых) исполнителей народных песен, там выступающих, пополнили свой репертуар кое-какими новыми и пугающими даже песнями: неожиданно, в добавлении ко всем этим древним присвистам о том, как Джон Генри взялся за молот, да так лихо, что обошел новенький паровой молот (и, надорвавшись, откинул копыта, ля— ля), или о том, как Барбри Аллен жестоко отвергла юного ухажера, изнывающего от любви (и умерла со стыда, ля-ля), появились песни о том, каково это — быть отверженным, когда тобою пренебрегают, выгоняют тебя с работы, потому только, что кожа у тебя не того цвета, когда тебя упекают в кутузку и хлещут плеткой лишь потому, что ты, чернокожий, осмелился — ля-ля-ля — подсесть в закусочной Вулворта за столик к белым, в городе Монтгомери, штат Алабама.
Это может показаться абсурдным, но только тогда она стала интересоваться судьбою свой родителей, и их родителей, и родителей тех родителей. Она не могла прочитать книгу «Корни» — она жила в другом мире и в другом времени, залолго до того, как Алекс Хейли ее написал, может быть, даже задумал, однако она осознала впервые, на удивление поздно, что ее предки вырвались из цепей, в которых держали их белые люди, не так уж и давно. Конечно, сам факт она знала и раньше, но это была только голая информация, лишенная всякой эмоциональной окраски — как абстрактное уравнение, которое никогда не затрагивало ее жизни.
Суммировав все, что ей было известно, Одетта сама ужаснулась скудости своих знаний. Она знала, что мама ее родилась в Одетта, штат Арканзас, в городе, в память о котором родители ее потом назвали свою единственную дочь. Она знала, что папа ее был дантистом в провинциальном городишке. Что он изобрел и запатентовал какой-то способ изготовления зубных коронок, а потом положил разработку свою в долгий ящик, и только лет десять спустя на нее обратили внимания специалисты, и он неожиданно стал состоятельным человеком. Она знала, что он разрабатывалл еще несколько приемов зубоврачебной техники в течении десяти лет до того, как разбогатеть, и еще года четыре потом, большинство их было связано с протезированием и косметикой, и вскоре после переезда в Нью-Йорк вместе с женою и дочерью (которая родилась четыре года спустя после получения первого патента) он основал компанию «Холмс Дентал Индастрис», которая ныне в зубоврачебной области — все равно что компания «Скуибб» в области производства антибиотиков.
Но сколько она ни расспрашивала его, как они с мамой жили все эти годы, когда она еще не родилась, и потом — когда родилась, но отец еще не поднялся, папа всегда уходил от ответа. Он рассказывал ей вроде бы все, но не говорил ничего. Эта часть его жизни была для нее закрытой. Как-то раз ее мама — отец называл ее просто ма или Элис, и иногда еще Элли, когда выпивал стаканчик или был в добром расположении духа — сказала: «Расскажи ей о том, как в тебя стреляли, Дэн, когда ты ехал на „форде“ по крытому мосту», а он в ответ удостоил ее таким мрачным и осуждающим взглядом, что ма, которая и без того всегда чем-то напоминала бедненького воробушка, вся так и съежилась в кресле и больше не проронила ни слова.
После этого случая Одетта пару раз попыталась расспросить маму наедине, но напрасно. Если б она додумалась до этого раньше, она, быть может, смогла бы чего-нибудь разузнать, но поскольку отец молчал, мама тоже решила хранить молчание, но Одетта поняла, что прошлое для отца — все эти родственники, все эти пыльные дороги, магазинчики и лачужки с грязными полами и окнами без стекол, без самой простенькой занавесочки, все эти стычки, все домогательства и обиды, все соседские ребятишки, одетые в робы, перешитые из мешков из— под муки, — прошлое для отца похоронено и упрятано в памяти, как мертвый зуб под безупречною белоснежной коронкой. Он никогда об этом не говорил, или, быть может, не мог говорить и сознательно погрузился в эту выборочную амнезию; жизнь их в шикарной квартире дома «Греймарл» у Южного входа Центрального Парка была как зубы под пломбами. Все остальное тщательно скрывалось за этой непроницаемой оболочкой. прошлое отца было упрятано глубоко и надежно, без единой щелочки, сквозь которую можно было бы заглянуть, без единой лазеечки через этот запломбированный барьер в зев откровения.
Детта знала, что это такое, но Детта не знала про Одетту, а Одетта не знала про Детту, так что и эти гладкие зубы были сомкнуты плотно, как ворота неприступной крепости.
От матери Одетта унаследовала некоторую застенчивость, а от отца — его явную (хотя и ненарочитую) жесткость характера, и только однажды она осмелилась еще раз подступиться к нему по этому поводу. Как-то вечером — дело было в его библиотеке — она сказала ему, что он ей отказывает в элементарной человеческой искренности, что ей можно уже доверять, что она заслуживает доверия. Отец оторвался от «Уол-стрит Джорнал», аккуратно сложил газету и положил ее на сосновый столик рядом с торшером. Снял очки без оправы, положил их поверх газеты и только потом посмотрел на нее — худощавый чернокожий мужчина, такой худой, что казался почти истощенным; седые курчавые волосы уже редели на углубившихся впадинках на висках, где нежно и ровно пульсировали вены — и сказал: Я никому не расказываю о той моей жизни, Одетта. Я лдаже не вспоминаю о ней. Это просто бессмысленно. С тех пор мир изменился, скажем так, сдвинулся с места.
Роланд бы понял.
7
Открыв дверь с надписью ГОСПОЖА ТЕНЕЙ, Роланд увидел много такого, чего он не понял — он понял только, что это все не имеет значения.
Это был мир Эдди Дина, но сейчас он представлял из себя какую-то мешанину огней, людей и вещей — Роланд в жизни не видел столько вещей. Судя по виду, вещички эти предназначались для дам, и, очевидно, они продавались: одни лежали под стеклом, другие красовались в заманчивых стопках и витринах. Роланд не мог разглядеть их как следует — мир, в который он заглянул, наплывал на него, проносясь мимо дверного проема, который теперь стал глазами Госпожи. Роланд смотрел ее глазами, точно так же, как смотрел глазами Эдди Дина, когда тот шел по проходу воздушной кареты.