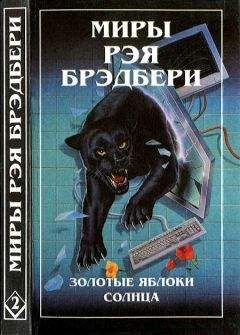2
Весело было Перуну с дозором нестись. То стрелу ввысь послать, то палицу вдруг по тучам вприпрыжку пустить. И за край заглянуть, и леса осветить, донага раздеваемые дождем, и реки, и ручейки, от ливня реками ставшие. И обратно коней развернуть и увидеть в коротком разрыве небес: белый конь — почему-то один! — и ладья без Дажьбога. Мрак царил над ладьей. Мрак и чье-то громадное, волосатое тело. «Велес», — вспомнилось вдруг.
— Велес! Ты? — он уже громыхал, и дыбил коней, и вверх уводил их по тучам, чтобы было удобнее целить. — Где Дажьбог? Где мой брат?! — и выхватил из колчана стрелу.
А в ответ лишь тревожно заржал белый конь. И сверкающий бич — обычно Дажьбог погонял им крылатую тройку — вдруг мелькнул возле самых железных колес, а потом и коней стал хлестать по ногам, по бокам…
Ужаснулись Перуновы кони чужого бича, так нежданно настигшего их, и в испуге с места сорвались — так стремительно, что упал громовержец. Палицу кинуть хотел, не успел — хорошо еще за поводья схватился.
И тогда только Велес свой голос рокочущий подал:
— Вот, Перун! Твой черед наступил охрометь! А потом под землею ослепнуть! — и на брата бичом замахнулся, и хохот его, будто черные молнии, небо пронзил.
А Перун поднимался уже, тянул на себя поводья. И вот уже снова в своей колеснице стоял, и в Велеса целил. И палицу бросил. А только бичом раскрошил ее Велес на тысячу ослепительных искр. И новую палицу искрошил. И хохот его до небесного сада донесся:
— Дажьбог повержен! Теперь, Перун, твой черед!
И Мокошь — только бы небывалое это побоище мгновение за мгновением разглядеть — добежала до самого края небесного сада. И дерево обняла — только бы смерчем не закружиться:
— О мои боги! — шепнула. — Как вы оба прекрасны! Вечность бы целую только на вас и смотреть!
И даже шагов за спиной своей не различила — быстрых, скользящих. Это Кащей по небесным пригоркам к дереву жизни спешил.
Если на Селище птицей взглянуть, воробьем, продрогшим, дождем и градом побитым, — из-под стрехи Лясова дома что же увидеть-то можно? Тьму, которую то и дело молнии разрывают. И в ярких этих разрывах людей различить, как тесно они друг к другу прижались, такие же, как и он, — насквозь мокрые, жалкие, ветром со всех сторон обдуваемые, косым дождем заливаемые. Им бы под крыши свои поскорее бежать, им бы хлеба с сыром поесть, а что не доели, то на крыльцо положить! — нет, стоят вокруг Лясова дома, головы к небу задрали — на молнии неотрывно глядят.
Если на Селище воробьем посмотреть, иного и не увидишь. Даже Ляса на крыше своей не увидишь, промерзшего до костей, а только про холод давно позабывшего — рвущего струны гуслей разбухших. Потому не звенели — гудели и ухали струны. Голос Ляса звенел за себя и за них:
— Вот вторую стрелу в него мечет Перун!
Но хитер и силен еще Велес-бог.
Он бичом ударяет чужих коней,
Под откос колесницу пустить норовит!
И услышав такое, выдыхают с ужасом люди. А дети реветь принимаются. И Роска, Калины жена, стоит, за большой живот держится и о том горько плачет, что ей сына рожать, а как же рожать, когда ночь без конца, когда Велес Перуна вот-вот одолеет!
И Яся не знает, где слезы, где дождь. И Сила с Удалом не знают. И Заяц, и Утка. И Ягда не знает, — она с ними рядом стоит. Один Ляс в этот миг знает всё, видит всё. И поет, и струны гулкие треплет:
— Кони в страхе храпят, кони прочь несут
Колесницу железную и ее седока.
Что напрасно о третьей стреле жалеть?
В бездну черную третья стрела легла.
Если на Селище воробьем посмотреть, только рты кричащие в этот миг и увидишь.
— А-а-а! — от ужаса и тоски.
— И-и-и! — от горечи и тревоги.
А если вылететь из-под стрехи — голодно воробью, нет больше мочи терпеть! — и до княжеского двора, поднатужившись, среди ливня пробиться — и под стреху амбара влететь… Оглянуться на чавканье мокрой земли и увидеть: неспешно идет по двору Родовит — а только нестрашный он, потому что усталый и старый, и пусть себе мимо идет — и заветную щелочку наконец отыскать и юркнуть в нее, и забыться в тепле… Но от голода забудешься разве? И сначала зарыться в зерно, его уймища здесь, и наесться им до икоты, а тогда уж забыться… А только и от икоты забудешься разве? И вылететь в ночь, и по старой привычке к реке полететь — чтоб у берега, между досок мостков, немного воды поклевать… И увидеть такое — это даже и воробью диковинным показалось — как посох в высокий берег воткнув, старый князь вниз по мокрому склону съезжает — так дети зимою по снегу на досках и на дощечках скользят — а он вот по грязи… И входит в разбухшую реку. Входит и говорит:
— О мои боги! Я — ваш человек, — и руками тонкий лед разбивает. — Перуна и Мокоши человек. Дажьбога, Сварога, Симаргла, Стрибога и Велеса, — и плечами теснит уже ломкий лед, и, прежде чем в Сныпяти скрыться совсем, так еще говорит: — Быть может, о боги, эта жертва смягчит вас…
Слов негромких не различал воробей, а всё-таки над мостками взвился и понял: он ужасное видел сейчас! И людям весть об этом понес, и еще дорогою верещал:
— Чирк! Чирк! Чирк! — и когда до людей долетел тоже: — Чирк! — закричал им. — Чирик!
Но потерялся голос его в человеческом шуме.
Ляс не пел уже, Ляс гремел:
— Лишь девятой стреле врага поразить.
И люди стенали в ответ:
— Перун! Возьми нашу силу!
А Ляс — уже громче грома ревел:
— Вот по небу летит она, брызжа огнем…
А люди, уже и не слушая дальше:
— Хвала Перуну!
— Перуну слава!
И от гомона этого неумолчного воробей опять под Лясову стреху забился — раз не нужна была людям его ужасная весть — раз у них радость случилась всех страшных вестей поважнее. И нахохлился. И в крыло сытым клювом уткнулся. И сквозь сон еще слышал:
— Хвала и слава тебе, Перун!
— А-а-а! — это Мокошь кричала, как Мамушка или Щука могли на земле закричать. А она у края небесного сада стояла, а всё равно: — А-а-а! — кричала и следом от ужаса: — И-и-и!
Потому что видела: вот сейчас железная колесница столкнется с деревянной ладьей и та разлетится на части!.. Но Перун успел, развернул коней, и ладья уцелела. А вот Велес в ней пошатнулся, не устоял… И тогда громовержец подхватил его за грудки и к небу сначала поднял, а потом уже в черную бездну швырнул, и молнию следом послал — насквозь молния Велеса-бога пронзила.
— О-о-о! — кричал он, и падал, и снова кричал: — О, проклятье!