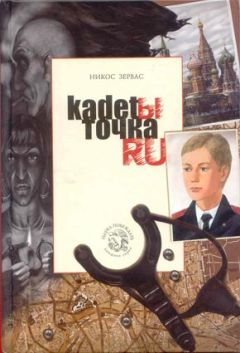— Кто-нибудь уступит мне кальян, в конце концов?
Она жадно схватила пожелтелую трубку. От глубокого вдоха щёки бывшей сотрудницы ФСБ Александры Селецкой втянулись, и частые трещинки морщин на верхней губе вмиг сделали её лицо похожим на мордочку упыря. Сарра Цельс выпустила сладенький дым из затрепетавших ноздрей.
— Придётся посканировать кадетишку всеми доступными методами. Он обязательно раскроется. Надо лишь нащупать тёмную струнку и зацепить. Пусть мальчик сыграет свою новогоднюю роль, а потом…
Она мечтательно завела глаза:
— Я лично прикончу эту тварь.
Глава 6. Один вечер Ивана Денисовича
С тех пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Всё оказалось в нём, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах.
Н.В.Гоголь. Мёртвые души
Генеральский бас озабоченно гудел в трубку: — Все вокруг помешались на этом Царевиче! Замучили парня. С телевидения звонят, из журналов факсимилируют. Михалков-сын чуть не фильм о нашем Иванушке задумал снимать, понимаешь! Не ровён час загордится парнишка. Какой из него офицер получится?
— Что поделать, если твой Царевич такой замечательный, — усмехнулся собеседник.
— Да ничего в нём особенного, Куприяныч! — возразил генерал Еропкин. — Просто сила воли. Да ещё желание быть лучшим среди сверстников. Нормальное офицерское рвение.
— Слушай, Петрович, у тебя таракашки, случайно, не завелись в телефонной трубке? — вдруг молвил тот, кого назвали Куприянычем. — Кажется, сверчок потрескивает.
— Знаешь, Куприяныч, ты свои чекистские штучки бросай, — недовольно пробурчал Еропкин. — Я тебе о деле говорю. Нечего, понимаешь, Ваньку захваливать. Он и так считает, что умнее всех в училище!
— Но ведь это правда, — спокойно возразил собеседник. — Мальчик по-своему гениален, надо признать. Несовершеннолетний интеллектуал с кулаками — такое не часто встречается.
Начальник училища оглушительно фыркнул в трубку:
— В-вот, понимаешь, придумал! Да если хочешь знать, главное в Иване — не мозги и не хорошая физическая форма.
— Что же?
— А я тебе скажу. Прости за громкое слово: честь. Да! Простая кадетская гордость за училище. И желание быть блестящим офицером, потом генералом, да хоть маршалом — кем угодно! Знаешь ли ты, что Царевич никогда не врёт?
— Гм? Для будущего разведчика не совсем подходящий принцип.
— Зато для боевого офицера в самый раз. Вот послушай, что мне воспитатель третьей роты рассказывал. У них теперь всё устроено по принципам. Не врать даже в мелочах. Не позволять никому оскорблять училище, армию и Отечество.
— Да ты что? С ума сойти.
— Сначала просто играли в царское офицерство, называли друг друга «Ваше благородие», ну и прочая хохлома. А сейчас пошло всерьёз: честь мундира, самодисциплина, хладнокровие. Не поверишь, Куприяныч, теперь боюсь, как бы дуэли не начались в училище!
— Эге, брат! Хорошо бы такая «хохлома» и по другим кадетским корпусам распространилась. Скорей бы. Ну теперь смотри: кто придумал играть в царских офицеров? Царицын. А ты ещё спрашиваешь, почему все восторгаются твоим Царевичем.
— Такое ощущение, что у него внутри сидит что-то генетическое. Наверное, от отца передалось. Понимаешь, внутреннее достоинство. Даже наказывать его неловко, хоть и поделом бывает. Будто принц какой-то. Знаешь, Куприяныч, я что думаю, тяжело нашему Ване придётся. Если в один прекрасный день парень возомнит себя лучше других…
— А ну стоп, — сказала Сарра Цельс, оборачиваясь к оператору прослушки, — перемотайте немного назад. Что-то я последнюю фразочку не расслышала…
* * *
Под конец ноября навалило снегу. Кремлёвский холм царственно выбелило, залепило небесной крупой каменные красные стены, и вдруг стало похоже на прежний белокаменный град.
Будто в сказке ходили по Пожару иностранцы в покупных ушанках, притихшие от несказанной, почти инопланетной красоты соборов. Глаза, отвыкшие от чистоты, купались в струящейся радости белого камня, седого серебра и купольного жара, горящего сквозь тончайшую скань заснеженных веточек.
Многим казалось, что уже после смерти проходят они по Соборной площади, озолачиваемые сверху рассеянными озёрами сусального солнца, осыпаемые медленным звоном снежинок, а кому-то странно так думалось, что и не жили никогда прежде, а так, суетились только, не ведая ни правды, ни радости Божьей.
А когда стемнело, выяснилось, что дорожные службы опять прозевали зиму. Подкралась, как всегда, внезапно и вывалила на Москву мыльную пену из поднебесного корыта. Улицы покорно стали, утопая в бензиновом чаду. Продрогший за долгую осень Достоевский у библиотеки наконец получил белый меховой воротник, а стеклянный купол старого, замшелого университетского корпуса на Моховой улице, казалось, намеревался обрушиться под тяжестью снежной шапки.
Легко бежалось по заснеженным тротуарам по щиколотку в мягком снежке. «Куда я мчусь?» — одёрнул себя кадет. Сегодня и завтра — законная увольнительная по случаю дня рождения.
В эти два дня любой суворовец имеет право и с девушкой встретиться (если таковая имеется), а если пока нет, как у большинства ребят с курса, то — пожалуйста, ходи в кино, ешь мороженое, отдыхай как душе угодно! Многие едут домой, к родителям. Ване некуда было ехать: мама была далеко, в Ростове-на-Дону. А папа… и того дальше… почти на том свете.
Тряхнул головой. Если думки привяжутся — плохо. Будешь вспоминать отца каждую минуту: как он там, без сознания, на аппарате искусственного дыхания. Эти мысли доставали Ивана всюду: и на уроке, и на плацу, и во сне, даже на тренировке по самбо. Он научился отгонять от себя эти мысли, знал: помочь папе своими волнениями он не может.
Иван должен просто учиться, чтобы мама знала: хотя бы у Вани всё нормально.
Поэтому, когда в сентябре кадет Царицын попался на самоволке, было особенно страшно, что выгонят из училища. Мама бы этого не пережила. В госпитале сказали, что отцу можно отключать аппарат искусственного дыхания, потому что шансов выжить — никаких. Дескать, у них во всём Ростове нет ни одного нейрохирурга, способного сделать такую сложную операцию. А из столицы, из госпиталя Бурденко, ради простого лётчика никто не приедет. Ваня с досадой пнул ботинком ледышку.
Мама упросила не отключать аппарат ещё неделю, бросилась в Москву. За неделю продала квартиру в Балашихе, ту самую, где прошло Ванино детство, и начала искать врачей, готовых за деньги поехать в Ростов. Каким-то чудом нашла удивительного человека по имени Глеб, который лет десять назад работал в знаменитой швейцарской клинике профессора Десенбриака (Ваня почему-то намертво запомнил фамилию). Глеб согласился слетать в Ростов и сделал отцу операцию.