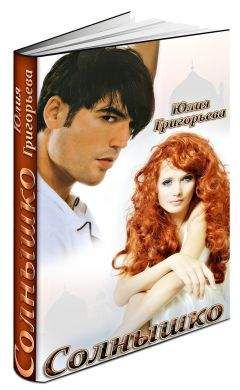— Быстро смекаешь, рохля, — похвалил тот.
Тамир ничего не ответил. Он давно научился не замечать подначек наставника и в душе даже благодарил его за вразумление. Первый раз, когда крефф взял выученика с собой, парень не прихватил ничего, кроме плаща. Ту ночь, что он провел под моросящим дождем в мокрой одеже, в неловко сделанном из лапника шалаше и на жесткой еловой же подстилке — голодный, холодный и злой, навсегда приучили послушника быть готовым по любому знаку Донатоса сорваться с места.
Тогда, глядя как наставник обустраивается на ночлег, споро разводит костер и варит кашу, Тамир поклялся, что больше не позволит застать себя врасплох. С того времени в его сундуке всегда была собран заплечник со всем скарбом, что может пригодиться в пути. Котелок, ложка с миской, топорик, нож, соль, огниво, трут, мешочек крупы, сухари, несколько головок чеснока, лук и смена одежды. Он учился на своих ошибках, потому как наставник их не допускал.
…Скользя на лыжах вровень с креффом, парень молчал. Спрашивать что-то у Донатоса дело зряшнее. Захочет — сам скажет, не захочет — словом злым обожжет хлеще плети. Да и по нахмуренным бровям и упрямо сжатым губам колдуна было видно, что тот еле сдерживается. Так что уж лучше не лезть, добровольно хребет под кнут не подставлять.
— Быстрее окороками шевели! — рявкнул колдун. — Плетешься, как вша беременная, а нам до заката поспеть надо. Или давно на снегу не ночевал? Так я тебе спроворю, едва в Цитадель вернемся. Седмицу будешь во дворе ночи коротать.
И, сплюнув в снег, он припустил еще шибче, только поспевай.
— Наворотят дел, дурачье, а потом сорок шлют да сопли развешивают. А мы разгребай. Найду скудоумца, что навь породил, кишки через задницу вытащу…
Тамир вздрогнул, но не от снега, упавшего с еловой лапы за ворот, а от голоса креффа, полного лютой злобы. Что наставник может виновного покарать — так за ним дело не станет. И вправе он будет своем, и не осудит никто. Давно уж заведено, что нельзя покойника сжигать, не обманешь Хранителей. Вернется дух бесприютной навью искать себе тело. Никому покоя не даст. Так и повадится шастать, и ни стены его не удержат, ни обереги…
Целые деревни снимались с места, где заводилась беспокойная душа. Потому-то все знали, что нет большего преступления, чем мертвеца сжечь, ибо упокоить навь было посложнее, чем целое буевище.
Но нет-нет, а появлялись Заблудшие.
Кто по дурости, кто по жадности предавал мертвых огню. Вот только ни разу обман не удавался и с рук не сходил. Каждый староста в самой забытой Хранителями веси имел особую сороку, что знала путь к Цитадели. Поговаривали, будто птица была наделена Даром, только то впусте болтали. Тамир видел сорочатник при крепости, да что там видел, самому, бывало, приходилось кормить и чистить клетки с беспокойными трещотками, вот только колдовства в них не было ни на грош. Однако креффы легко подчиняли птиц. Из всех пернатых сороки проще всего поддавались воле Осененных. Могли они в любую погоду долететь до ближайшей сторожевой тройки и позвать колдуна или примчаться в Цитадель за подмогой.
Но люди всегда оставались людьми. У кого птица издохнет, кто от жадности удавится, а обережника не позовет, были и те, кто не имел гроша за душой — оплатить работу. А еще в засушливые годы случались пожары… да такие, что некому было взывать к помощи. Добро буде, если прилетит взъерошенная перепуганная птица, а ежели в дыму и огне сгибнет вместе с людьми, так знай — хапнут колдуны хлопот, а ближние веси беды. Всякое бывало, оттого-то нет-нет, а приходилось колдунам упокаивать навь.
— Ежели узнаю, что покойника огню предали, всех Ходящим скормлю, — выплескивался крефф, и Тамир молчаливо с ним соглашался.
Работа предстояла немалая, не каждый колдун с ней справиться может. Оттого-то и бежал парень вровень с наставником, отталкиваясь палками от искрящегося снега. Понимал — каждый оборот на вес золота теперь. Если навьих несколько, то как бы подмогу звать не пришлось. Вон, и Донатос вестницу из Цитадели с собой прихватил, сидит на плече, вцепившись коготками в верхницу, и поглядывает черными блестящими глазами.
Выехав из леса на пригорок, обережники остановились. Перед ними, как на ладони раскинулась деревенька. Небольшая и не маленькая, дворов на тридцать. С горушки был виден мужик, беспокойно топчущийся перед тыном и все глядящий на дорогу.
— Староста, поди, мается, — буркнул крефф. — Поехали, мозги ему вправим.
И начал спускаться, обдав выученика снегом, брызнувшим из-под лыжин.
Оказавшись у околицы, колдун, недолго думая, съездил почтительно склонившемуся мужику по уху. Тот рухнул в снег, прикрываясь руками, и завыл:
— Не губи, не губи! Нету нашей вины.
— Сколько навьих? — не слушая оправданий, рявкнул Донатос.
— Три… — прошептал деревенский голова.
— Три? — от голоса колдуна повеяло смертью.
Передав опешившему Тамиру сердито верещащую сороку, крефф неспеша отстегнул притороченные к сапогам лыжи, подошел к стоящему на коленях старосте и ударил того кулаком в живот. Несчастный согнулся, хватая ртом воздух, а крефф прошипел:
— Ты почто вещунью с грамотой отправил, будто у тебя только одна навь завелась? Ты какого упыря замолчал, что их тут целый рой? — тряс мужика за бороду колдун.
— Кузня вечером загорелась, — задыхаясь, наконец, выдавил тот, — а у нас рядом Стая кружит, не вышел никто до рассвета, думали: коваль дома. А уж когда солнце взошло, я к нему пошел, а жена сказала: не было Хрона. Я сразу птицу и направил. Отколь мне знать было, что он там не один сгорел?
— Почто горелки не проверили? — продолжал трясти его Донатос.
— Дык, боязно, — лепетал несчастный, не пытаясь, впрочем, освободиться. — Кто ж пойдет туда, покуда колдун обряд не сотворит? Мы и так горя натерпелись, когда они надысь встали разом и давай по деревне шкрябаться.
— Счастье ваше, что они еще в силу не вошли. Еще чуть — и не шкрябались бы, а заходили, куда хотели и давили вас, как котят слепых, — плевался словами крефф. — Откуда навьих трое оказалось, коли кузнец один был? Ну? Говори!
Деревенский голова застонал:
— Так не один он в кузне сидел, с дружками. Те как раз с отхода возвернулись, вот решили отметить, дурни пустоголовые. А у Хрона, кузнеца нашего, баба хуже шавки брехливая, разве б она им дала горькую пить? Вот и пошли в кузню. А там, видать, перепились в дрова да заснули. А что уж дальше случилось — не ведаю.
— Перепились, значит, — сощурил глаза крефф. — Перепились да сгорели, а мне теперь их упокаивай с миром.
— Не губи, господине, — запричитал мужик. — Нет моей вины, я все по правде сделал, птицу сразу отослал и каждый день дуракам толкую, чтоб не пили до изумления, так ведь люди есть люди…