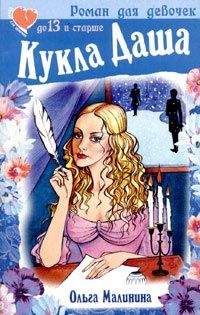— Слышал, конечно. Только, ты еще не скоро умрешь. По крайней мере — не в ближайшее время. От тебя не пахнет смертью.
— Слышь, Колян, ты это. Когда почуешь, что я умираю. Не предупреждай меня, ладно? Неожиданно хочу умереть.
— Ладно.
— А бабу ты все‑таки найди.
— Угу, если найдется та, что меня не испугается.
— С чего она тебя испугается? У тебя же на лбу не написано, что ты оборотень. Хотя, скорее всего это не будет для нее секретом: вас ментов сейчас все оборотнями называют.
— Но, это же в переносном смысле.
— Я в курсе. Если бы в прямом — и другие кинологи меня бы понимали. Это ведь и не скроешь никак. Хотя. С твоей профессией можно прикрываться ночными дежурствами.
— Можно, но мне бы не хотелось. Все‑таки доверие быть должно.
— Все‑таки ты максималист, Колян, самый настоящий максималист. А ведь баба та тебе понравилась. Да?
— Лейла? Да, очень. Только. Ей и шестнадцати по — моему нет.
— Ничего, подождешь, пока вырастет. Такую бабу упускать нельзя.
— Джульбарс, ну что ты все "баба", да "баба"? Зачем же так грубо?
— А я простой, ты же меня знаешь. Может, и расскажешь ей когда‑нибудь, как ты в армии превращаться начал. У тебя же в армии это началось?
— Началось не в армии, но впервые превратился действительно там. Ты бы видел, какой там лес…Красота. Сосны качаются и луна…Эх. Правда, сослуживцы меня как‑то раз чуть не пристрелили.
— Да, сослуживцы — они такие, — резюмировал Джульбарс.
— Меня тоже несколько раз чуть ни пристрелили на задании. А с собаками ты тоже тогда стал разговаривать, или раньше?
— Разговаривал я с вами и раньше, но только там понял, что собаки меня понимают. Парни из части еще так этому удивлялись.
— Я смотрю, от тебя, Колян сплошная польза…
— Угу, я же еще по следу идти умею. Вот, нарушителей границы и ловил.
— А меня почему списал? Одному работать надоело?
— Нет, просто, понимаешь…
— Да, ладно. Я не обиделся.
— Найти бы еще этого странного старика.
— Да, судя по запаху, зажился этот дедок, еще больше, чем я, пожалуй.
Стояла поздняя весна, почти лето. Молодая листва еще не запылилась, вечера вновь стали долгими и золотыми. Даже жаль было тех, кто умирал такой весной. Впрочем, многим из них себя было ничуть не жаль.
— А ниче так весна, да? — прервал мои размышления дядя Витя.
— Да. Красивая, — ответила я.
Старик был как‑то не по — хорошему весел и доволен. Он шел радом со мной, улыбался и смотрел на меня озорным взглядом. И даже не просил хлебушка, что было для него совсем уж не характерно.
— Дядь Вить, а почему ты такой довольный, если не секрет? Еще кого‑нибудь убил, или только собираешься?
— Я? Нет, вряд ли. Я же не ты, все‑таки.
— А ты, выходит, знаешь, кто я?
— Да, за столько времени можно было догадаться, наверное.
— А вот я не знаю, кто ты. Так, кто же ты? Ты — чудовище?
— Я? Не знаю. Наверное, да. Особенно — в молодости.
— А что ты делал в молодости?
— Чего я только в молодости не делал.
— А твои родители? Они были чудовищами?
— Вот, мои родители точно были настоящими чудовищами. Отец бил меня постоянно, да и мать не отставала. Они трактир держали.
— А откуда ты?
Я решила все‑таки докопаться до правды, насколько это возможно. Вот, ведь, стало любопытно, называется. И почему я раньше не спросила?
— Откуда я? Постой, я же раньше помнил. Я еще у профессора соус такой ел, который якобы там сделан. Говно, кстати, редкостное. Но, я съел. Я все ем. Как бы мне говно не начать есть при таком подходе. Хотя, нет, не начну, наверное. Я же не слепой.
— Ну, а соус‑то как назывался?
— Майонез.
— Так, ты из Майона?
— Нет, из Прованса. Хотя, какая теперь разница.
— А..?
— Нет, теперь я буду спрашивать. Когда ты за мной придешь?
— Мне это неведом конец твоего срока. Думаю, как любое чудовище, ты проживешь долго.
— И за что мне это?
— Не знаю. Честное слово, не знаю.
— Эх… — погрустнел дядя Витя.
— А хлебушка у тебя, как всегда нет?
— Как всегда.
Он ушел, а я отправилась дальше по своим делам. Нет, все‑таки, какая весна! Даже не знаю, говорить ли Даше, что уже скоро, скоро, скоро.
С каждым днем Лика становилась все беспокойнее. Она часто оглядывалась на улице; проверяла, нет ли кого‑нибудь в подъезде, прежде, чем выйти из дома и с подозрением вглядывалась в лица прохожих. Она знала: скоро ее придут убить. Именно об этом говорило Дашино предупреждение в виде мертвого голубя. Только она не сдастся просто так. Она даст убийцам отпор. Или, в самом худшем случае, произнесет эффектную и запоминающуюся фразу перед смертью.
Лика думала, что ее волнение совсем незаметно со стороны, поэтому никто не сможет оценить, как мужественно она переносит удары судьбы, даже такие тяжелые. Антон думал иначе. Не заметить Ликин страх было просто невозможно. Он знал, чего, вернее — кого она боится. И не знал, чем ей помочь. Вернее, как помочь наверняка он знал, но надеялся, то до этого не дойдет.
Антон прекрасно понимал всю беспочвенность Ликиных страхов: ну, зачем какой‑то девочке — подростку ее убивать, даже если их отношения нельзя назвать дружескими? Да и как она это сделает, даже если вдруг на такое решится? Да и предупреждение, в виде мертвого голубя (б — р-р, гадость, на нем, наверняка, куча разных паразитов), честно говоря, показалось ему несколько надуманным.
Чтобы лишний раз удостовериться в том, что Лике ничего не угрожает, он стал наблюдать за Дашей и Лейлой. В лицо он их знал (однажды, во время прогулки, они увидели девочек издалека и Лика их ему "представила"). Но вывод, благодаря частым наблюдениям он сделал тот же самый: Лике ничего не угрожает. По крайней мере — со стороны этих девочек.
Вообще, Антон давно понял, что в психушке Лика оказалась не по ошибке. Большинство Ликиных страхов не только не имели под собой реальной почвы, но и были, мягко говоря, несколько странными для психически нормального человека. Да и эти вечные "грызы", с которыми она постоянно "боролась". И ее шумные друзья, вечно ведущие какие‑то "магические войны".И странные ритуалы, которые они пытались провести. И страх перед тенями и сгустками тьмы (кто бы знал, что это за сгустки).
Но, несмотря на все это, Антон ее любил.
В женском отделении царило какое‑то странное оживление. Большинство пациенток прилипли к окнам и, подобно спортивным болельщицам, выкрикивали: "Катя, мужик! Катя, мужик!"
"Катя — мужик?" — удивился было Рома, шедший к ней под каким‑то предлогом. Но, увидев пациенток, облепивших окна и оживленно наблюдающих за чем‑то на улице, сорвался и побежал. На улицу. К Кате.