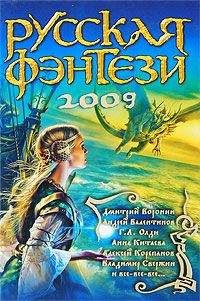«Субдоминанта, — думал Каша, — вторая низкая… а потом мелодический мажор». У него была пятерка по сольфеджио.
Ланка пела, танцуя у микрофона так же, как Тиррей в руках у Каши: никто этого не видел, но она танцевала. Витя своим ритмом отрывал ее от земли, Волчара держал и нес в небо, Эрвейле светил в этом небе солнцем, и должна была лететь рядом с Ланкой золотая орлица — Тиррей…
Киляев потерял баррэ, но струна не задребезжала. «Тирь», — подумал он с нежностью. Гитара играла сама, он был только ее исполнитель — он парил, он мчался в этом небе, пронизанный музыкой, и светлая игла в его сердце давала ему силу лететь.
Партия заканчивалась, осталась только пара фраз в коде. Аркаша незаметно выдохнул: прошло.
Ланка допела последнюю ноту — опять вокализ, трепещущий, как лист на ветру.
Стало тихо.
В гулкой неуютной тишине неуместно, как всегда, захлопал менеджер. Аркаша посмотрел на Полину Кимовну. Все на нее посмотрели.
Замдиректора задумчиво улыбалась. Борис перестал хлопать.
— Скажите, — спросила Полина, — а вы… могли бы показать со сцены трансформацию ваших инструментов?
Не успела она договорить, как Аркаша почувствовал что-то смутно неприятное — будто сквозняк подул из-за кулис. Но сквозняков здесь не было; холодная темнота плыла то ли от Полины, то ли из-под крыши зала. Тиррей словно стала тяжелее в руках Аркаши. Он не сразу понял, что чувства эти принадлежат не ему, а гитаре — они почти слились в единое целое, пока играли.
Запоздало Киляев огляделся.
Волчара заметно помрачнел. Борис усердно делал выразительные глаза, словно пытался внушить «Белосини» нужный ответ. Витя вздохнул, положив палочки.
— Извините, — отрезал Серега-Сирена, — нет.
— Почему? — Голос Полины стал мягким, как вата.
— Это цирк, — хмуро сказал клавишник. — Живые инструменты в перформансах не участвуют.
— Очень жаль.
Это были единственные слова, которые замдиректора произнесла без улыбки. Потом она снова заулыбалась, покивала Борису, сказала, что все могут быть свободны, она сообщит о своем решении позже. Неприятное чувство не покидало Аркашу, и теперь это было его собственное чувство.
В «Сказку сказок» их не приняли.
Никто особенно не расстроился — если бы их всерьез волновали такие неудачи, «Белосинь» давно бы распалась. Катастрофы не случилось. Борис еще раз пошел в «Дилайт», совершил чудо менеджмента и вернулся с возобновленным приглашением. Уровень у «Дилайта» был другой, там вполне хватало того шоу, которое «Белосинь» могла устроить. Борис сказал, что на самом деле директор «Дилайта» и не собирался с ними рвать, просто хотел попугать немного дисциплины ради, и он, Борис, его очень хорошо понимает. Борис вообще в этом деле хорошо понимал.
Отличный он был менеджер, Борис, зря Волчара над ним смеялся.
Неделю спустя в гостях у Ланки они смотрели новые песни. Песни писала Ланка и иногда Волчара, но аранжировать ни у той, ни у другого не получалось совершенно, аранжировки делали Витя с Серегой. Аркаша сочинять не умел и иногда, в глубине души, расстраивался из-за этого. Конечно, у него была Тиррей. Но как подумаешь, что больше-то за душой ничего… «Каждому свое, — думал Киляев, утешая себя. — У всех что-то свое есть».
Витя с Борисом вышли покурить к лифту. Вернулся Витя один. Менеджеру позвонили на мобильник какие-то деловые партнеры, и он убежал.
— …со страшным криком, — образно закончил ударник. Все засмеялись.
— Вить, — спросила Ланка, — а он не говорил больше про «Сказку»? Там совсем глухо?
— Говорил, — ответил ударник и посмотрел в окно. По-всегдашнему спокойное лицо его стало совсем невыразительным. — Полина, говорит, ответила: «Хорошие, — говорит, — ребята. Но как их позиционировать? Либо живые инструменты, либо крепкий средний уровень. То и другое одновременно наша публика не поймет».
Повисло молчание. Серега сплел пальцы в замок и угрюмо скосил рот на сторону. Аркаша не знал, что и подумать. Все уставились в пол.
— Во как… — глухо сказал Волчара.
С тем они и разошлись — молча, разве только попрощавшись вполголоса.
Само собой, замдиректора «Сказки» была женщиной капризной и привередливой, выдавала собственное мнение за мнение публики. Но привычные эти утешения не помогали. Кое-чего Киляев просто не понимал.
Они же летали.
«Солнце меня согреет, — пела Ланка, — орлица-золото рядом, и весь небосвод — мне крылья»… «На разогрев могла бы взять, — думал Каша, настраивая Тиррей по бабкиному фортепьяно. — Мы же хорошо отыграли. Тиррей так хорошо играла. Она молодец. Почему?»
Дерево в его руках шевельнулось.
Пара секунд — и вместо колков гитары Каша прикасался к ее твердому ушку. Тиррей сидела у него на коленях, привычно, будто в кресле. Сопела носом. Лак ее пах сегодня сильнее, чем обычно. Киляев принюхался и подумал, что эдак дендрофилом станет — древесный запах Тиррей его уже заводит. Вот опять на уме не дело… Он улыбнулся.
— Сказка, — уныло сказала Тирям-Тирям и насупилась. — Сказок.
— Не расстраивайся, — ободрил ее Каша и обнял за тонкую талию. — Будем в «Дилайте» играть снова.
— Сказка, — повторила Тиррей и вдруг больно, сильно пихнула его в живот. — Ска! Зок! — крикнула она. — Каша! Ты ничего! Я! А ты чего?
Аркаша только глазами захлопал. Гитара соскочила с его колен, пнула его по ноге и замотала лохматой головой:
— Ты! — завизжала она, подпрыгивая на месте, и это бы выглядело смешно, не будь она настолько зла. — Почему ты совсем ничего?.. А я!
— Тирь! — Каша вскочил, схватил ее за руки, Тиррей вырвалась и со всей силы ударила его в живот, так, что у него в глазах потемнело. — Дура! — простонал он.
— Я тебя! Я пела, играла! Я — вся!.. — Гитара завыла и села на пол. Подол сарафана задрался до пупа. — Ты-ы-ы-ы…
— Ты чего? — опасливо спросил Каша. Он даже обидеться забыл.
— У-у-у-у… Ка-аша… мя-амля… — Тиррей оскалилась, вцепившись пальцами в волосы и ритмично раскачиваясь, — у-у…
— Тирь!.. — вскрикнул Киляев, перепугавшись уже не на шутку.
И только струны зазвенели нестройно и глухо: Тиррей, мгновенно обернувшись вещью, упала на пол.
Гремел телефонный звонок.
Сердце у Аркаши колотилось под горлом. Даже колени тряслись. Он едва не споткнулся о Тиррей, пробираясь мимо нее к телефону. Звонила наверняка мама, поэтому нужно было собраться с духом и успокоиться, прежде чем поднимать трубку, а то потом ведь не придумаешь, чем отговориться… «Почему, — спросит, — у тебя голос такой?» — и что ответить? Меня побила моя гитара?