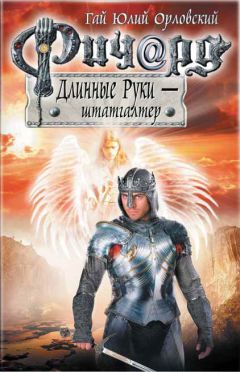Она поинтересовалась:
— Но… почему? Тебя послали убить нефелимов… но ты не убил?
Я пожал плечами.
— Нефелимы — не вы, гордые ангелы. Они признали меня властелином и преклонили передо мной колени. Как я мог истреблять своих подданных? Я велел им хорошо трудиться, не ронять молоты на ноги и… удалился. За что и схлопотал от своих.
Она долго молчала, то поднимая на меня взгляд, то опуская снова. Я молчал тоже, наконец она проговорила тихо:
— Да, этого никто бы из нас не сделал.
Я сказал с кривой усмешкой:
— Чаще всего мы сами себя не понимаем. Это беда, конечно, но мы оптимисты и даже гордимся своей дуростью и непредсказуемостью. Это наша национальная черта человеков.
Она сказала невесело:
— Большинство из вас остались верны убеждениям. Считается, это хорошо. Верно?
— Да, — ответил я. — Так в большинстве народа считается.
— Но ты так не считаешь?
— Нет.
— Но если мир меняется, хорошо ли быть неменяемым?
Я сказал осторожно:
— Хорошо. В смысле, неменяемым жить легче. Но, конечно, это неверно, хотя в таком повороте и если смотреть под углом сверху справа, то уже другой аспект.
— Не поняла, — сказала она, — скажи проще.
— Смотря в каких случаях, — пояснил я.
— А если вообще?
— Если вообще, — сказал я все с той же оглядкой, непонятно, куда клонит, — то человек должен, просто обязан меняться. Все рождаемся круглыми дураками. Но нельзя оставаться такими, хотя, конечно, многие остаются… Так жить легче.
— И что это вам дает? — спросила она, и у меня пробежал холодок по коже от невзначай и равнодушно оброненного «вам», хотя уже понятно, кто она, а кто я.
— Много, — ответил я. — Много дает. Даже отдельным людям, а уж всему нашему расплодившемуся племени… Дети с детства усваивают то, что родители открыли невероятными усилиями за всю свою жизнь. Потому дети чуточку умнее и чуточку идут дальше.
Она подумала, сказала со вздохом:
— Правильный ответ.
— Еще бы, — сказал я хвастливо. — Я весь из себя правильный. Могу даже научить крючком вязать. Или на спицах.
Она впервые улыбнулась, лицо начало напоминать живое.
— Ты и это умеешь?
— Я ж говорю «научить», — возразил я с достоинством. — Учитель вовсе не обязан уметь сам. Я больше высокорожденный теоретик.
Она покачала головой.
— Нет, учиться вязать не стану. И так прошлое давит тяжелым грузом.
— И мешает усваиваться новому? — спросил я.
Она взглянула пристально.
— Да, мы сделали ошибку, не поверив, что такое слабое существо из глины сможет стать лучше, чем оно есть.
— Но кто-то же поверил? — спросил я.
Она снова покачала головой.
— Нет.
— А верные Творцу ангелы?
— И они не поверили, — ответила она просто. — Всего лишь не решились возражать. Тогда никто не поверил.
— Тогда, — повторил я, — а как сейчас?
— Верно улавливаешь, — похвалила она. — Сейчас правоту Творца увидели многие, но это…
Она запнулась, подбирая слова, долго думала, я подсказал:
— Только ожесточило?
В ее глазах проступило нечто похожее на уважение.
— Как догадался?
— Знакомо, — сказал я угрюмо. — Люди, вместо того чтобы признать свою дурь и повиниться, еще больше начинают…
— То люди, — напомнила она.
— Первый раз, — напомнил я, — двести ангелов спустились к людям еще в допотопное время и таких блох от них набрались да еще и новых наплодили, что пришлось вызвать потоп, чтобы смыть с лица земли ту скверну.
Она сказала резко:
— В потопе виноваты люди!
— Люди во всем виноваты, — согласился я. — Но и победы тоже наши.
Она отвела взгляд и долго смотрела на спокойную гладь реки.
— Тогда люди погубили тех ангелов, — проговорила она. — Нет, это не снимает вины с Азазеля и тех двухсот, но они были полны решимости помочь людям…
— Есть такой тост, — сказал я, — пьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями… Это мы сейчас где? Что-то не узнаю места… Тот лес был сосновый, а тут каштаны…
Она произнесла, не поворачивая головы:
— Это место рядом с тем, куда ты так спешил…
— А, — сказал я обрадованно, — окрестности Геннегау? То-то тепло так… Сказано, юг. Ну, почти юг. Как ты поняла? Я говорил в бреду? Да, в ионы меня не примут… Ты не против, если позову свою лошадку? И собачку?
Она произнесла безучастно:
— Зови.
Я повернулся в одну сторону, в другую, на грани видимости нечто розовое, словно полоска рассвета, сердце стукнуло радостнее, это же далекие стены Геннегау, приложил руки рупором ко рту.
— Зайчик… Бобик… Ко мне, мои замечательные морды!!!
Она посмотрела с вялым любопытством.
— Услышат?
— На любом расстоянии, — заверил я гордо.
— Тогда орать не обязательно, — заметила она.
— Тоже верно, — признал я. — Просто привычка. Если далеко — надо орать погромче. Инстинкт! У вас как насчет инстинктов?
Она пожала плечами.
— Я не знаю, о чем ты говоришь.
— Динозаврица, — сказал я ласково. — Красивая и прекрасная, как стегозаврица… Или белая игуанодонна, что чао белла, чао, чао, чао… Сила и мощь, властелины мира. Пусть мелкие жалкие млекопитающие приспосабливаются, ты глыбоко права. Но это я так, от присущей творческим натурам волнительности и потрясабельности данным моментом.
Она кивнула.
— Да, ты волнуешься, хотя и не показываешь виду. А когда говоришь, что волнуешься, то затем, чтобы подчеркнуть, что якобы совсем не волнуешься.
Я сказал пораженно:
— В точку… Хоть и женщина. Кстати, ангелы же бесполые, а как ты…
— Я же избрала жизнь среди людей, — напомнила она.
— Ух ты, — сказал я. — Ты все время среди них?
— Почти, — подтвердила она, — каждые сто лет захожу в ваш мир на несколько дней, а он всегда, ты не поверишь, так быстро меняется…
— Ого, — сказал я, — на целых несколько дней! Впечатляет. Хотя, что может измениться так быстро? Горы, сама говоришь, на том же месте. Даже река. Только лес разве что…
— Люди, — сказала она. — Люди стали тоньше и проницательнее с того времени, вижу по тебе. К сожалению, это ожесточило ангелов еще больше.
— Никто не любит, — согласился я, — когда тычут в морду доказательства твоей ошибки. Но на Творца вряд ли повысят голос, а на человеке можно и отыграться.
Она покачала головой.
— Не так просто. Творец не позволит.
Я поморщился.
— Кто весел — тот смеется, кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет… способ.