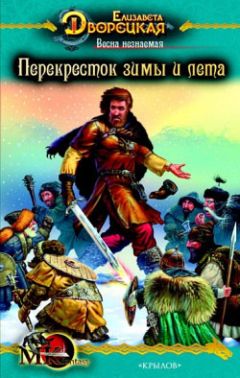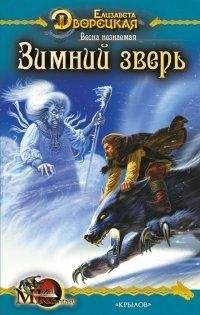– Гром на тебя! Рассыпься! – выдохнул Громобой, с замахом вскинул меч и обрушил его на щит свистуна, который как раз до него добежал.
Удар прозвучал гулко, свистун присел, прикрываясь щитом, но сила удара была больше, чем он мог выдержать, и он упал на лед, но щит по-прежнему держал над собой. Громобой выпустил меч, нагнулся, схватил упавшего за ноги, рывком поднял и его телом, как дубиной, наотмашь ударил трех набежавших лиходеев. Те покатились по льду, звеня своим оружием и испуская вопли ужаса; на белом снегу густо заалели кровавые брызги.
Сам свистун поначалу дико взвыл, но быстро затих, когда голова его столкнулась на лету с чем-то из оружия его же ватажников. А Громобой шагал вперед, продолжая молотить ряды нападавших головой их же вожака, и они отступали, спотыкались, катились по льду назад, крича и вопя. Дикое зрелище и бесславная гибель вожака потрясали ватажников и лишали сил. Из завала вылезали все новые «лешие», но, разглядев, что происходит, половина из них кидалась назад.
Добравшись до самой засеки, Громобой бросил на снег тело, не подававшее никаких признаков жизни, и ухватил ближайший ствол. Теперь он мог сделать то, что хотел – смести с лица Истира эту дрянь! Под руку ему попался молодой дубок; ухватив за развилку ствола, Громобой выдернул его из кучи и вскинул над головой. Он ощущал, как неохотно подалась перепутанная, смерзшаяся древесная «кладка», но вырвал дерево почти без усилий – как ему казалось. Та же горячая сила бурно кипела в нем, для него не было ничего трудного.
«Лешие» с воплями скопом лезли на него, но Громобой, как вихрь, единым махом сметал дубком десятки человек. Ему было смешно смотреть, как они лезут на свою погибель, он хохотал, глотал холодный воздух, задыхаясь от жары и от смеха. Тела, отлетавшие под его ударами, казались не тяжелее теней. Обходя его, противники бежали прочь, он пытался их догнать, бил с размаху своим дубком и тут же искал новых; его раздражало, что они, как муравьи, разбегаются в разные стороны, гоняйся теперь за каждым!
Наконец он выдохся и опустил дубок. Поблизости уже никого не оставалось, и лишь несколько темных фигурок, суетливо дергая ручками и то и дело падая, убегало по гладкому льду куда-то вверх по течению Истира, в ту сторону, откуда он пришел. Громобою было отчаянно жарко, все тело пылало горячим паром; распахнув кожух и сбросив на лед шапку, он рукавицей вытирал мокрый лоб.
Он остался совсем один: вокруг было тихо, белый лед был усеян темными телами в самых нелепых положениях – искореженных, избитых. Возле них лед был залит красным – как соком из раздавленных ягод.
Вдруг одна из ближайших «ягод» застонала. Громобой опомнился: с него спал тяжелый кровавый хмель, и он осознал, что натворил.
От ужаса волосы шевельнулись на голове и стало холодно. Дрожащими руками Громобой запахнул кожух, кое-как завязал пояс каким-то нелепым узлом и поднял со снега шапку. Шапка и рукавицы казались насквозь мокрыми и надевать их не хотелось. Громобой безотчетно сунул их за пазуху, не сводя глаз с ближайших к нему тел.
Что же ты натворил… рыжий медведь! Его все сильнее бил озноб, все яснее делалось, что он только что поубивал два или три десятка человек… Передавил, как муравьев… Но это же не муравьи, люди… Хотелось скорее очнуться от этого дурного сна; Громобой пытался понять, как это вышло, но почти ничего не помнил. Какая-то злобная нечисть в беспамятстве занесла его на этот берег и бросила возле накиданных мертвых тел, чтобы он принял все это за дело своих рук… Тяжесть многократной человеческой смерти черной волной разлилась над рекой и навалилась на него, дышать стало трудно, словно камень лег на грудь. Тянуло сказать кому-то: «Я не хотел!» Громобой смотрел на дубовый ствол, валявшийся под ногами, и следы крови на коре ужасали его, бросали в дрожь.
Не хотел… Он даже не мог понять, как это получилось. Что такое вдруг проснулось в нем и толкнуло убивать всех подряд? Да, они сами начали… Но десятки убитых оставались десятками убитых, Громобой не верил в дело своих рук и сам себе казался жуток, дик, чужд… Снова и снова он старался вытереть о подол кожуха свои руки, хотя на них следов крови не осталось, а дрожь не унималась, словно все эти мертвые духи вцепились в него невидимыми холодными зубами и рвут по жилочкам, по косточкам, по суставчикам, а он беззащитен – от нежити бревном не отмашешься… Как тогда, в Прямичеве, перед княжескими воротами… Но сейчас и буйство драки, и ужас перед содеянным были сильнее.
Громобой шагнул к ближайшему телу. Может… может, еще не поздно хоть чуть-чуть поправить? Лиходей был еще жив: удар бревна пришелся по плечу и рука была откинута в сторону под каким-то нелепым углом. Искаженное болью бородатое лицо кривилось, из сжатого рта вылетало звериное поскуливание. Ощутив тень, раненый приоткрыл глаза и тут же, вытаращив их, завопил благим матом, дернулся, попытался отползти назад, несмотря на боль. В выпученных глазах бился такой ужас, что Громобой содрогнулся и попятился.
Но все же у него отлегло от сердца: одним мертвецом меньше. Не обращая внимания на вопли мужика, Громобой разрезал на нем кожух, осмотрел размозженное плечо и по возможности вправил кости. Еще лет десять назад Веверица взялась его учить этому делу, приговаривая, что «много костей ты в жизни переломаешь, а кто поломал, тому и вправлять». Ободрав подол рубахи того же мужика, Громобой его же топором вырубил подходящие дощечки и приладил ему лубок, бормоча заговор той же Веверицы: «Как у синего камня нет ни раны, ни крови… Встань на камень, кровь не канет; встань на железо, кровь не полезет; встань на песок, кровь не течет…» Мужик то ли ослабел от боли, то ли обеспамятел от изумления, но больше не кричал и не дергался, а дал Громобою покончить с ним и заняться следующим.
«Вот медведь проклятый! – бранил Громобой сам себя, одно за другим осматривая лежащие тела, поднимая то одного, то другого и с тоской убеждаясь, что большинству помощь не нужна. – Чтоб тебя самого так перекорежило! Как хватит за руку, так рука вон! Правильно тебе говорили: голова с воз, а ума с воробьиный нос! Кулаки что молоток, а голова – пустой горшок! Тьфу!» Размозженные головы, свернутые шеи, продавленные ребра, переломанные хребты… Кровь, кровь, кровь… Громобоя мутило от вида и запаха этой кровавой каши, но он хмурился, кусал губы и терпел: сам виноват! Но кое-кого он все-таки перевязал, замотал в лубки поврежденные руки и ноги. За сломанные носы и челюсти он браться боялся – как бы своими копытами хуже не наделать, тут умелая бабка нужна. Где ее взять?
– Давай, что ли, помогу! – сказал рядом женский голос.
Громобой обернулся. Возле него стояла женщина, средних лет, румяная, круглолицая, с задорно вздернутым носом и ясными, светло-серыми глазами.