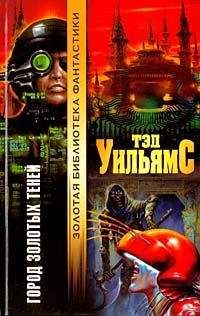Хотя причина прибытия отряда была невеселой, вести с родины всегда желанны, притом многие из новоприбывших сражались рядом с другими воинами отчима, и теперь старые друзья соединились вновь.
Когда Сулис наконец удалился к себе, а Ульса еще не успела загнать меня в дом, Телларин попросил Аваллеса представить его мне. Сам Аваллес был смуглый, тяжелолицый молодой человек с пробивающейся бородкой, всего на несколько лет старше Телларина, но фамильная серьезность делала его чуть ли не пожилым. Он чересчур крепко сжал мне руку и произнес пару неуклюжих комплиментов о прелестных цветках, расцветающих на севере, а потом представили своему другу.
Телларин не стал целовать мне руку, но его ясные глаза показались мне крепче всякого пожатия.
— Я навсегда запомню этот день, госпожа, — сказал он с поклоном. Тут Ульса подхватила меня под локоть и утащила прочь.
***
Даже в разгаре любовной горячки, которой был отмечен весь мой пятнадцатый год, я не могла не замечать, что перемены, начавшиеся с отчимом после смерти матери, принимают все более худший оборот.
Сулис теперь почти не выходил из своих комнат, запираясь там со своими книгами и писаниями, — только самое неотложное дело могло выманить его наружу. Беседовал он только с отцом Ганарисом, немногословным капелланом — единственным священником, который приехал с ним из Наббана. Сулис отдал своему старому боевому товарищу свежеотстроенную замковую часовню, и это место оставалось одним из немногих, которые хозяин замка еще посещал. Но его визиты, судя по всему, не доставляли старому капеллану большого удовольствия. Однажды я видела, как они распрощались. Сулис, нагнув голову против ветра, зашагал обратно через двор в наши покои, а Ганарис посмотрел ему вслед хмуро и печально — как человек, чей старый друг смертельно болен.
Возможно, я, если бы постаралась, и сумела бы чем-нибудь помочь отчиму. Возможно, нашлась бы и другая дорога, кроме той, что привела нас к дереву, растущему во тьме. Но я, по правде сказать, хотя и видела ясно все эти обстоятельства, особого внимания на них не обращала. Телларин, мой солдат, начал ухаживать за мной — сначала дело ограничивалось взглядами и приветствиями, потом он стал делать мне маленькие подарки, и все остальное в жизни представлялось мне очень незначительным.
Все изменилось так, будто новое солнце, больше прежнего, взошло над замком, согрев каждый его уголок. Даже самые обыденные дела приобрели новый смысл благодаря моим чувствам к ясноглазому Телларину. Я стала прилежно заниматься катехизисом и чтением, чтобы моему любимому не казалось, что со мной не о чем говорить.., кроме тех дней, когда ничем не могла заниматься, мечтая о нем. Я использовала свои прогулки по замку как предлог, чтобы увидеть его, обменяться с ним взглядом через двор или с другого конца коридора. Даже сказки, которые Ульса рассказывала мне за шитьем и которые прежде лишь помогали коротать время, звучали теперь совершенно по-новому. Влюбленные принцы и принцессы были Телларином и мной. Их страдания жгли меня, как огнем, а торжество любви трогало так глубоко, что порой я боялась лишиться чувств.
В конце концов Ульса, которая примечала многое, хотя ничего не знала наверное, перестала рассказывать мне какие бы то ни было истории с поцелуями.
Но тогда у меня уже появилась своя история, и я ею жила. Наш первый поцелуй состоялся, когда мы гуляли в продуваемом ветром садике под сенью башни северян. С тех пор это безобразное сооружение стало казаться мне прекрасным, и мне становилось тепло в самый холодный день, когда я видела эту башню.
— Твой отчим мог бы отрубить мне голову, — сказал мой солдат, касаясь моей щеки своей. — Я предал его доверие и забыл о своем положении.
— Раз уж ты все равно приговорен, — прошептала я, — можешь согрешить еще раз. — И я увлекла его подальше в тень и целовала, пока у меня не заболели губы. Я никогда еще не чувствовала себя такой живой, я сходила с ума. Я голодала без него, без его поцелуев, его голоса.
Он дарил мне мелочи, которых не водилось в унылом, бережливом доме Сулиса, — цветы, сладости, безделушки, покупая их на рынке в новом городке Эркинчестере за воротами замка. Я с трудом заставляла себя есть медовые финики, которые он приносил — не потому, что они были разорительны для его кошелька, хотя так оно и было — он не мог похвалиться богатством, как его друг Аваллес, — а потому, что это были его дары, для меня драгоценные. Съедать их казалось мне чудовищным транжирством.
— Ну так ешь понемногу, — говорил он мне. — Они будут целовать твои губки, когда меня рядом нет.
Нечего и говорить, что я отдалась ему безраздельно. Намеки Ульсы на падших женщин, которые топятся в Королевском озере, на невест, которых с позором отсылают к родителям после первой ночи, даже о незаконных детях, становящихся причиной страшных войн, я пропускала мимо ушей. Я отдала Телларину и сердце свое, и тело. Кто бы не сделал этого на моем месте? И стань я опять той девушкой, вышедшей из мрака своего грустного детства на свет яркого дня, я сделала бы это снова и с той же радостью. Даже теперь, когда я вижу всю глупость содеянного мной, я не могу винить ту девочку. Когда ты молода и жизнь кажется тебе длинной-предлинной, у тебя, как ни странно, совсем нет терпения — ты не можешь понять, что будет и другой день, другое время, другой случай. Так уж создал нас Бог — кто знает почему?
Вот и для меня в те дни не существовало ничего, кроме жара в моей крови. Когда Телларин стучался ко мне ночью, я укладывала его в свою постель, а когда он уходил, я плакала, но не от стыда. Между тем осень сменилась зимой, но нам и горя было мало — мы построили себе свой собственный теплый мирок. Я ни на миг не могла представить себе жизни без Телларина.
Скажу опять — юность глупа, ведь я столько уж лет живу без него. И в жизни моей с тех пор, как я его потеряла, было немало радостей, но тогда я нипочем бы не поверила в это. И все же я никогда больше не жила так полно и ярко, как в дни своей первой любви. Словно я знала, что нам недолго быть вместе.
***
Как ни назвать это — судьбой, проклятием или волей небес, — но теперь, оглядываясь назад, я вижу, как нечто неотвратимо вело нас к месту нашего назначения.
В одной ночи в конце месяца фейервера я начала понимать, что отчим не просто чудит — дело гораздо хуже. Я кралась по коридору обратно в свою комнату, проводив Телларина, и ни о чем другом не думала — и вдруг наткнулась на Сулиса. Я пришла в ужас, решив, что мое преступление столь же очевидно, как кровь на белой простыне, и, вся дрожа, ожидала изобличения. Но он лишь заморгал и поднял свечу повыше: