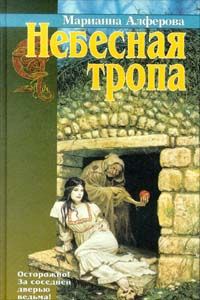Но Ольга лишь потрогала ключ и разжала пальцы. Не ударила. Не смогла. Грабитель выпрямился. Еще раз потискал брикет. Отломился маленький кусочек, меньше трети, и он милостиво вернул его вместе с мешком.
– Бери, всю жизнь будешь помнить и благодарить.
Да, помнит всю жизнь. Будь ты проклят!
…Ольга Михайловна встала. В свете хмурого утра виден стол с неубранной посудой, в чашке до черноты настоялся недопитый чай. Тихо в квартире. Только слышно, как капает на кухне вода. Окно в доме напротив оживилось тусклым светом. Там встали, суетятся, спешат. Заглатывают яичницу. Ругаются, теряя терпение. Если бы Ольга Михайловна жила за тем окном, она бы никогда не кричала. А лишь счастливо улыбалась, радуясь, что вокруг нее так много живых людей.
Она хотела убрать посуду, потом передумала и подошла к буфету, поправила фотографию в рамочке. За стеклом – полугодовалый Эрик, сидит, прижимая к себе попугая. У Эрика толстые щеки, надутые губы и испуганно-удивленные глаза. Поразительные у него были глаза – как два прозрачных больших изумруда. Но фото черно-белое, и вместо изумрудов получились просто серые кружочки. И зеленый попугай тоже серый, как голубая кофточка, как синие пинетки. Фотографию сделали за две недели до войны. Еще никто не знал, как все будет.
Фото Сергея хранится среди бумаг. Иногда Ольга Михайловна достает его. Но очень редко. Сергей вернулся с войны, но, пожалуй, им обоим было бы легче, если бы он остался там. Упорхнуло ее счастье, выскользнуло из рук, как мешок с драгоценной посылкой. Ночами ей снится не Эрик, нет, а не выпитый им кипяток со сгущенкой. Или масло. Оно тает крошечным желтым солнцем в алюминиевой мисочке с жиденькой кашей. Господи, если Ты есть, пусть там, у Тебя, Эрик каждый день пьет чай со сгущенкой, сладкий-сладкий. Очень прошу Тебя.
Попросила и перекрестилась на пустой угол без иконы. Грустно начинается новый день. Долгий, обычный. Ольга Михайловна накинула халат и, шаркая отечными ногами, побрела на кухню. Дверь в соседнюю комнату закрыта. Там темно. Уже три года, как умерла Эмма Ивановна. С тех пор в ту комнату Ольга Михайловна заходит, только чтобы вытереть пыль. На другой день после похорон внучка Эммы Ивановны от младшего сына Василия три дня разбирала сундуки с вещами. На полу валялись груды ветхих платьев и облезлых меховых горжеток, пачки поздравительных открыток, перевязанных тесемками, драные книжки на французском и немецком без конца и начала. Внучка искала сокровища. До внучки дошли смутные семейные предания о прежних богатствах Эммы Ивановны и супруга ее, офицера царской армии. Где же кольца и серьги, и знаменитое украшение из двенадцати бриллиантов?! Напрасно Ольга Михайловна объясняла молодой (то есть сорокалетней ) женщине, что немногие ценности, которые удалось сберечь в революцию, Эмма Ивановна благополучно сдала в Торгсин, потому как в послереволюционные годы нигде не работала, а только все проживала. Последние двенадцать бриллиантов у нее украли из сумочки в трамвае в тридцать девятом году, а последнее колечко с изумрудом она «проела» в эвакуации. Племянница в истории эти не поверила, силой ворвалась в комнату Ольги Михайловны, выбросила вещи из шкафа и все перерыла. Ничего не найдя, принялась орать, что старуха их обокрала, и требовала немедленно «отписать» ей квартиру, такова якобы была воля покойной. Пришлось звонить Гребневу, и он, приехав, выдворял Ирину и супруга ее из квартиры, а после отпаивал Ольгу Михайловну валидолом. Вспомнив о Гребневе, Ольга Михайловна подумала, что тот давненько уже не звонил и в гостях не бывал полгода. Она хотела немедленно ему позвонить, но потом передумала и пошла на кухню.
Кухня в квартире полутемная, напротив окна кирпичная глухая стена почти вплотную. Но Ольга Михайловна не стала включать лампочку. И в полутьме можно нащупать коробок и зажечь газ. Жизнь была слишком долгой и потеряла цельность, распалась на тысячи мелочей: на зажженные по второму разу спички, на старые, хранимые в ящике открытки, на ожидание писем от позабывших ее подруг. Молодые живут иначе, им кажется, что все еще впереди. А впереди ничего нет. Только усталость. И ожидание смерти.
Старуха вздрогнула, когда раздался этот звук… Не сразу сообразила, что стучат в дверь громко, нетерпеливо. Именно стучат, а не звонят. На цыпочках вышла в прихожую, чтобы подпереть дверь гладильной доской: в неурочное время она давно уже никому не открывала. Но гладильной доски на месте не оказалось. А дверь вздрагивала, как живая, под ударами. Старый хлипкий замочек дергался, готовый выскочить из гнезда.
– Мама! – крикнул голос за дверью. – Мама, это же я! Я! Эрик!
Сердце ее так и покатилось. Дверь выросла в высоту, а звуки сделались резкими, пронзительными до визга. Когда Ольга Михайловна пришла в себя, то поняла, что сидит на полу, сжимая в руках обгорелую спичку.
– Эрик, Эрик, – пробормотала она, – разве ты не умер? Ведь я зашила тебя в голубое одеяло и повезла на саночках… Эрик, значит, ты ожил, да? Ты спасся? Ты чудом спасся?
И руки сами повернули замок.
На площадке стоял паренек лет двадцати в клетчатой рубашке и драных джинсах. Обычный парень, каких много, – невысокий, немного сутулый, с худым бледным лицом. Острые скулы, темные брови, длинные русые волосы стянуты на затылке в пучок. Постой… Но ведь Эрику… Эрику должно быть уже за пятьдесят.
– Что, молодо выгляжу? – засмеялся гость, как будто подслушал ее мысль. – Все очень просто: в нашем мире время течет иначе, – гость обнял Ольгу Михайловну и поцеловал в седые поредевшие волосы. – Я так рад, что ты жива, мама.
Она хотела оттолкнуть его, но не смогла. Коротенькое слово «мама» прозвучало заклинанием, и околдовало ее. За всю жизнь никто ее так не называл. Эрик умер, не начав говорить, а Гребнев все годы, что прожил у Ольги Михайловны, всегда называл ее «тетя Оля». Она заплакала.
– Ну что ты, мама? – Рик отстранился и попытался стереть слезу с ее щеки. – Не надо. Я так хотел тебя увидеть! Потому первый и согласился на переброс среди добровольцев.
Она посмотрела ему в глаза. Они были зеленые, со светлым ореолом вокруг зрачка. Совершенно невозможный, невероятный цвет.
– Эрик… – выдохнула она и в ту минуту поверила ему совершенно.
– Какое счастье, что ты здесь есть! Мне говорили, что это так, но я не верил. Сказал себе: не поверю, пока не увижу.
– То есть… – не поняла она.
– В моем мире ты умерла, а я остался жив, – прошептал он.
Через пятнадцать минут Ольга Михайловна суматошно металась между плитой, столом и холодильником, не зная, чем таким невероятным угостить своего внезапно объявившегося сына. Впрочем, выбор был невелик: чайная колбаса да яйца. Она решила: пусть будет и то, и другое.