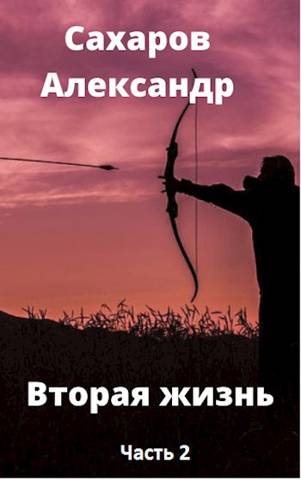Ричарда кинуло в жар. Он хотел бы многое сказать, но взял себя в руки и кинул со всем равнодушием, какое смог изобразить:
— Врёшь.
— Да вот те Сердце и Роза! — забожился санитар. — Идём!
Ричард бросил забытые санитаром матрасы и пошёл за ним, надеясь, что санитар не заметит, какое впечатление произвели его слова.
В лазарете было одновременно душно и холодно. Запах карболки, чёрного бальзама для гноящихся ран, крови, пота, человеческой боли стоял стеной, дышали десятки людей — но почему-то это не делало помещение теплее. Раскладных коек хватило счастливцам, менее счастливые лежали на матрасах, брошенных прямо на пол, а совсем уж невезучим достались плащ-палатки — это, видимо, для них привезли матрасы, что лежали сейчас на дворе под снегом.
И небритую осунувшуюся физиономию Вика Ричард узнал издали.
— О! — сказал он радостно. — Ты впрямь ещё жив, жеребец? Счастливчик, домой поедешь.
— Так и ты жив, дохляк, — выдохнул Вик и добавил в тоске: — Не поеду. Не берут меня на сегодняшний поезд, фельдшер сказал.
— Берут, — сказал Ричард. — У меня всё схвачено.
И переглянулся с санитаром. Санитар с готовностью кивнул.
— А ты жох, — сказал Вик с уважением.
— Отдыхай, — улыбнулся Ричард. — Организуем.
— Ну что? — с надеждой спросил санитар.
Ричард снял перчатки и отдал их Вику.
— Отдашь вот этому из окна вагона, — сказал он. — Он ещё обещал колбасу и бутылку крепкой. Тебе пригодится.
— А ты и впрямь жох, — приблизительно с таким же уважением протянул санитар.
— С волками жить — по-волчьи выть, — хмыкнул Ричард.
— Повезло дылде, — сказал санитар насмешливо.
Ричард не удостоил его ответом.
Он ещё заходил на двор лазарета, поглядеть, как раненых грузят в конные фуры, чтобы везти к железной дороге. Убедился, что Вика отправляют со всеми. Это несколько утешило Ричарда, но его нестерпимо терзала мысль, что Вика-то он вытащил — а какого несчастного солдата переделают в тварь вместо Вика?
Я служу аду, думал Ричард, и ему хотелось выть от нестерпимого ужаса и тоски. И парни служат аду, думал он, кусая губы. Умереть — ещё полбеды, все умирают… но если вот такое сожрёт твою душу… Лучше пуля, осколок, что угодно. Лучше валяться вмёрзшим в кровавую грязь на нейтралке. Лишь бы не жратва для жрунов.
В тот день он практически решил умереть. Не беречься — ради чего беречься? Ради того, чтобы подольше участвовать в этом кошмаре? Ради того, чтобы попасть в пасть жруна? Или просто постепенно превратиться в полуживую тварь с глазами мороженой курицы?
Пусть ад выясняет отношения без меня, думал Ричард. Мы всего лишь пылинки, несчастные щенки, которых бросили на рельсы, — а с двух сторон летят два адских паровоза, чтобы столкнуться и разбиться вдребезги. Всё равно телу не уцелеть.
Но душа…
Последнее же, что осталось.
И не убивать таких же несчастных бедолаг с другой стороны — их ведь тоже небось бросили на эти рельсы, не спросив согласия…
Ночью отделение Ричарда расставили на посты — около склада с боеприпасами и около склада, где хранились банки с серыми и порой отдыхали жруны.
К ночи погода окончательно испортилась. Началась метель. Ветер выл и стонал на сотню ладов, нёс мокрый снег и яростно швырял его в лицо — до весны оставалось совсем немного, но зима и знать того не хотела. Фронт глухо ворчал в ночи, но далёкой канонады было почти не слышно за воем и свистом ветра. Единственный фонарь у склада вьюга трепала так, будто хотела сорвать его совсем.
Ричарду было очень холодно. Тело тупо болело, руки в казённых нитяных перчатках, кажется, примёрзли к винтовке, он закоченел — и даже не пытался топтаться на месте, чтобы согреться. Сейчас я околею здесь, думал Ричард, глядя, как ветер мотает фонарь, — и это будет хорошо. Не так больно, как от пули, не так страшно — и не надо никого убивать. Просто околею, как бродячий пёс.
Ричард так и не понял, что вытряхнуло его из этого сонного предсмертного оцепенения, — но ярким оно было, этакой внутренней вспышкой, от которой он вздрогнул всем телом и резко обернулся. И столкнулся взглядом с вышедшим из метельного мрака мертвецом — так он ощутил это в первый момент.
Фарфоровый призрак не носил каски — и ветер трепал светлую чёлку. И взгляд стеклянных глаз показался Ричарду живым. И почему-то не врезало ему под дых нестерпимым ужасом, который всегда летел за адскими тварями.
Наверное, поэтому Ричард опустил винтовку и спросил мёртвого лазутчика:
— Погоди меня убивать, ответь: у тебя душа есть?
27
Ричард, конечно, очень бодро решил, что ему нужно сражаться на нашей стороне — но всё равно его ситуация терзала ужасно. Потому что, как ни крути, наши солдаты убивали его братву. И никакой возможности как-то убедить братву сдаваться в плен или переходить на нашу сторону у нас не было: перелесцы видели ад глаза в глаза. У них не умещалось в голове, что на нашей стороне при таком кошмарном раскладе может быть как-то иначе.
А я показала Ричарда Виллемине и Лиэру. Я чувствовала, что этот парень у нас при дворе не просто так, что-то его ведёт, — ну и на удачу показывала его всем подряд. Слушала и думала.
Выводы получались интересные.
Виллемина произвела на Ричарда совершенно оглушительное впечатление. У него руки затряслись, когда он увидел нашу дивную государыню. Но не от страха: я знаю, как он чувствовал страх. Просто нестерпимо было заглянуть в глаза той зверюге, что зовётся пропагандой: это ж такой вал вранья, самого злобного вранья, что и сам не можешь понять, как в такое в принципе можно поверить.
Особенно если верил.
— Вот, — сказал Ричард и вморгнул слёзы. — Вот что я ещё на фронте понял, прекрасная государыня. Вы — как фарфоровые бойцы. И вас ад не видит, а если какая адская тварь увидит — она боится.
— Вот как, мэтр Ричард? — ласково сказала Виллемина. — Так-таки и боится?
— Жруны эти самые… простите, государыня, твари адские — до самого последнего момента и не видят, и не чуют, — сказал Ричард. — Поэтому командиры с вашей стороны и думают, что фарфоровые — лучшие лазутчики. Жруны чуют живых, и серые тоже, а фарфоровые… они через смерть прошли. Их не чуют. Я сам видел.
— Но убивают, — тихо сказала Виллемина.
Ричард на неё посмотрел, как семинарист на обожаемого наставника, не как на королеву.
— Конечно, — выдохнул он. — Вы, государыня, им страшный враг — и фарфоровые бойцы тоже. Они на всё готовы, чтобы убить. Но чутьё у них сбоит, понимаете! Они соображают, что их враг пришёл, только нос к носу, совсем вплотную.
Виллемина переглянулась и со мной, и с Лиэром — и Лиэр опустил веки согласно, и вообще всем лицом показал, что чего-то такого и ожидал.
— Да, — сказала Виллемина. — Получается, что фарфоровые — наш передовой отряд. И что мы можем возлагать на них очень много надежд.
— Точно, прекрасная государыня, — истово закивал Ричард. — Я видел. Ваше прямо оружие против ада.
— Наши мёртвые, — еле слышно сказала Виллемина. — Наши убитые.
Это было сказано так, что даже меня передёрнуло жутью.
— Выходит, так, — сказал Ричард.
И он в этом явно чуял что-то правильное, и я в этом почувствовала что-то совершенно правильное. Но почему-то это правильное вызывало такую тоску, что ныло сердце.
Вильме снова надо было бежать после этой аудиенции на четверть часа — но я её поймала. На минутку: мне очень нужно было послушать, что она скажет. Нужен был её холодный спокойный разум, трезвый — чтобы себя немного охладить, чтобы стало не так больно и стало можно работать дальше.
Ещё мне хотелось её обнять — и мне показалось, что и ей хотелось. Подержаться друг за друга. Понять, что у нас ещё есть какие-то тела.
Что мы ещё на этом свете.
Вильма взяла мою голову в ладони, как когда-то:
— Карла, милая, тебя ведь что-то мучает?
— Ты понимаешь, как всегда, — кивнула я. — Меня мучает, потому что тебя ведь мучает. И у тебя болит, я чувствую. Когда ты сказала «наши мёртвые»…