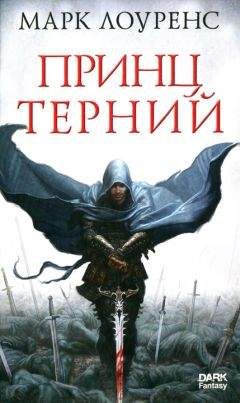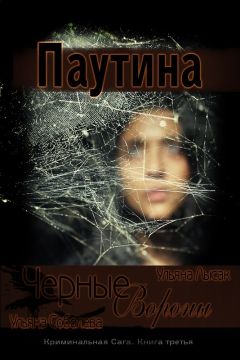— Отстранись от боли, Йорг. Пусть кровь Агнца Божьего смоет твои грехи. — В ней не было ни капли фальши. Она стояла передо мной, искренне озабоченная, она хотела помочь. Ангел держал дары в распахнутых руках: сострадание, любовь… жалость.
Но мне и одного подарка было бы слишком много. Знакомая улыбка искривила мои губы. Поднялся, робкий, заторможенный, со склоненной головой.
— У Агнца Божьего не найдется столько крови, чтобы смыть мои грехи. Если уж суждено быть повешенным за ягненка, почему бы не украсть овцу.[11]
— Нет греха столь тяжкого, чтобы не раскаяться, — ответила она. — Нет зла, которому нельзя положить конец.
Она действительно верила в то, что говорила. Ни одно лживое слово не могло сорваться с этих губ. Это было понятно.
Когда я встретился с ней взглядом, меня подхватила волна любви, она была настолько сильной, что едва не унесла меня за собой. Я постарался отрешиться и сразиться с ней. Обозвал себя придурком и криво усмехнулся:
— Некоторые грехи я так и не осознал до конца. — Я шагнул к ней. — Богохульствовал… в церкви. Возжелал соседского быка. Украл, целиком зажарил и прикончил в приступе обжорства, смертельный грех, первый из семи, содеянный, когда едва оторвался от материнской груди.
Страдание, появившееся в ее глазах, причинило боль и мне, но я к этому привык, всю жизнь провел там, где тебя бьют со всех сторон.
Я ходил вокруг ангела, и от моих ступней на полу оставались следы, исчезавшие при следующем шаге.
— Возжелал жену соседа. И поимел ее. Тоже убил. О да, убивал, причем чем дальше, тем больше. Так что некоторое грехи я так и не осознал… Если б я не умер таким молодым, уверен, список был бы намного больше. — Разозлившись, я сжал челюсти. Чуть сильнее — и зубы раскрошатся. — Проживи я хоть на пять минут дольше, ты смогла бы поставить отцеубийство во главу списка.
— Все это можно простить.
— Мне не нужно твое прощение. — Щупальца тьмы расползались по полу.
— Отринь все это от себя, дитя.
В ее словах теплота и усмешка чувствовались настолько сильно, что едва не унесли меня за собой. Ее глаза превратились в окна, через которые я увидел все содеянное как одно целое. Башня, возведенная из прошлых поступков. И все это может быть прощено. Я понимал, что это возможно, ощущал вкус и запах прощения. Если б она не была так уверена в успехе, то могла бы сцапать меня в то же мгновение.
Я сдерживал злость, почерпнутую из моего отравленного колодца. Мои злодеяния не красили меня, но они были моими.
— Я мог бы пойти с тобой, миледи. Мог бы принять твое предложение. Но кем же я тогда стану? Кем буду, если раскаюсь во зле, которое закалило меня?
— Ты будешь счастливым, — ответила она.
— Это буду не я. Так может быть счастлив обновленный Йорг, Йорг без гордости. Не желаю быть ничьей собачонкой. Ни твоей, ни Его.
Ночь возвращалась как туман, расползающийся по топям.
— Гордость — тоже грех, Йорг. Самый смертный из семи. Тебе нужно отказаться от нее. — Наконец-то в ее словах появились отзвуки требовательности. Именно этого мне и не хватало для противостояния.
— Нужно? — Тьма кружилась водоворотом.
Она протянула руки. Тьма разрасталась, а ее свет тускнел.
— Гордость? — вопрошал я, и на губах вновь играла улыбка. — Я и есть гордость! Пусть покорные получат свое наследство, а я лучше проведу вечность в темноте, нежели испытаю божественное блаженство такой ценой.
Я солгал, чтобы сохранить себя.
Теперь от нее исходил лишь тусклый свет, скорее, даже мерцание на фоне бархата черноты.
— Так говорил Люцифер. Гордость свергла его с небес, хотя он сидел по правую руку от Господа. — Ее голос стал едва слышным шепотом. — Поэтому гордость — абсолютное зло, корень всех грехов.
— Гордость — все, что у меня осталось.
Внутри опять темнота, снаружи — тоже.
— Он что, еще не помер? — Женский голос, акцент явно тевтонский, скрипит как старая телега.
— Нет. — Молодая, голос знакомый, тоже тевтонка.
— Негоже так долго помирать, — произнесла та, что старше. — И такой белый. По мне так он мертв.
— Крови потерял слишком много. Не знала, что в мужчинах столько бывает.
Катрин! Ее лицо явилось мне среди темноты. Зеленые глаза, точеные скулы.
— Белый и холодный. — Ее руки лежат на моей кисти. — Но когда подносишь к губам зеркальце, оно запотевает.
— Говорю вам, набросьте подушку ему на лицо, и покончим с этим.
Я представил свои руки на шее старой карги. И стало чуть теплее.
— Очень хочу увидеть, как он умрет, — заявила Катрин. — Особенно после того, что произошло с Галеном. Вот бы увидеть, как он умирает возле трона, когда кровь стекает вниз, ступенька за ступенькой… То-то было бы счастье.
— Королю следовало перерезать ему глотку. Окончить начатое прямо там.
Снова старуха. По манере разговора, скорее, служанка. Ее горькие слова повисли в гробовой тишине.
— Только жестокий человек может поднять нож на единственного сына, Ханна.
— Не единственного. Сарет носит вашего племянника. Теперь ребенок родится с надлежащим правом наследования.
— Как думаешь, они оставят его здесь? — спросила Катрин. — Положат в гроб к матери рядом с братом?
— Положат щенков к суке и запечатают склеп, говорю вам.
— Ханна! — Я слышал, как Катрин отошла от меня.
Они отнесут меня в гробницу матери, крошечный покой в склепе. В последний раз, когда я был там, пыль лежала толстым слоем, не тронутая отпечатками сапог.
— Все же она была королевой, Ханна, — заявила Катрин, что-то чистя, судя по звуку, щеткой. — В ней видна сила.
Изображение матери было высечено на мраморной крышке гроба, словно она прилегла отдохнуть, соединив в молитвенном порыве руки.
— Сарет красивее, — возразила Ханна.
Катрин вернулась ко мне.
— В королеве важна сила. — Я почувствовал ее пальцы на лбу.
Четыре года прошло. Четыре года назад, дотрагиваясь до мраморной щеки, я поклялся больше никогда сюда не возвращаться. Тогда я плакал в последний раз.
Интересно, дотрагивалась ли до ее лица Катрин. Гладила ли и она камень…
— Давайте покончим с этим, моя принцесса. Проявим милосердие по отношению к мальчишке. Они положат его к матери и маленькому принцу. — Мед так и лился с языка Ханны. Ее ладонь у меня на горле — кожа на пальцах шершавая, точно акулья.
— Нет.
— Вы ведь сами говорили, что хотели бы посмотреть, как он умирает, — заявила Ханна.
Рука хоть старая, но достаточно сильная. Должно быть, не одной курице в свое время шеи свернула. Может, однажды, а то и дважды довелось и младенцам подсобить. Начала давить сильнее, медленно, но верно.