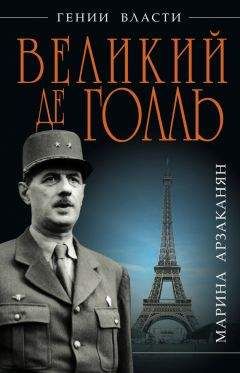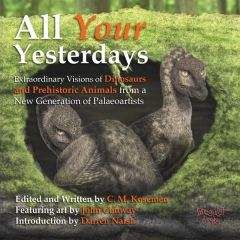- Ты обещал завтра устроить большую прогулку по Парижу. Сесть на лошадь с похмелья для меня равносильно самоубийству.
- Похмелье? Дружище, ты о чем? Безупречный натуральный продукт, перебродивший виноградный сок без консервантов, красителей и вкусовых добавок! Подставляй кубок… Чего хмуришься? Осознай - на дворе тысяча триста седьмой год! Париж! Высокое средневековье со всеми его достоинствами, недостатками, величием и ничтожностью!
Иван поднялся, взял серебряный бокал и продекламировал не без вдохновения:
Всемогущие владыки, прежних лет оплот и слава, короли…
И они на высшем пике удержаться величаво не могли.
Так уходят без возврата восседавшие надменно наверху.
Господина и прелата приравняет смерть мгновенно к пастуху.
Где владетельные братья, где былое своеволье тех времен,
Когда всякий без изъятья исполнял их злую волю как закон?
Где спесивец самовластный, процветанье без предела, где оно?
Может там, где день ненастный: чуть заря зарозовела, уж темно?
- Нравится?
- Неплохо. А кто автор?
- Испанец, дон Хорхе Манрике, один из самых талантливых поэтов раннего Ренессанса. Блестящий дворянин, великий воин - идеал своего времени. Как всякий хороший поэт, погиб в бою, очень молодым. И предсказал будущее, каким мы его знаем. Слушай:
Графы, герцоги, маркизы, благородные личины, господа,
Чьи причуды и капризы смерть уносит в час кончины без следа.
Чьи свершенья и утраты в годы мирного покоя и войны
В край, откуда нет возврата, неподкупною рукою сметены.
Мир, ты всех нас убиваешь, так хоть было б в этой бойне, чем платиться.
Но таким ты пребываешь, что отрадней и достойней распроститься
С этой жизнью многотрудной, для утрат нам отведенной и пустою,
Безутешной и безлюдной и настолько обойденной добротою…
Наши жизни - это реки, и вбирает их незримо море-смерть;
Исчезает в нем навеки все, чему пора приспела умереть.
Течь ли им волной державной, пробегать по захолустью ручейком?
Всем удел в итоге равный; богача приемлет устье с бедняком.
- Мрачновато, - сказал Славик, выслушав. - Даже немного жутко. Всегда думал, что настоящее искусство должно нести радость, а эти стихи не вызывают никаких положительных эмоций.
- Ты не заметил главного, - мягко сказал Иван. - Люди, среди которых ты сейчас живешь, принимают смерть иначе чем мы. Стихи дона Хорхе - это не апология смерти, а наставление живущим. Указание пути. Пути без спеси, капризов, причуд, ненужностей рожденных нашей гордыней. Напоминание, что старуха с косой всех уравняет. И тогда придется встать пред апостолом Петром и рассказать, что ты сделал хорошего, дабы ключ от Рая вошел в замочную скважину, повернулся и перед тобой раскрылись Врата вечности… Славик, постарайся накрепко уяснить: сейчас, в этой эпохе, ты гораздо ближе к Богу, чем у нас дома.
- И к дьяволу, получается, тоже?
- Тс-сс. Не накличь беды. Ты ведь человек верующий?
- Крещен, - ответил Славик. - Бабушка меня крестила, точнее. Совсем маленьким, при советской власти. Когда мы были в деревне, позвала домой батюшку, меня в тазик окунали. Попа помню, с бородой…
- Когда вырос в церковь ходил?
- Редко. Свечки ставил. Крестик ношу.
- Понятно. Завтра пойдешь на исповедь к брату Герарду Кларенскому, - сказал Иван. - Лично отведу. Вывалишь на него все, что наболело. Сверху донизу, ничего не скрывая. Думаешь я ничего не замечаю? Ты на грани взрыва от напряжения, сдерживаешься с трудом, бодришься, стараешься не показывать свои чувства. Я боялся брать тебя с собой… Клин клином. Или ты сломаешься, или станешь настоящим аргусом.
- Брат Герард? - преувеличено спокойно ответил Славик. - Инквизитор?
- Священник. Настоящий. Посредник не только между эпохами, но и между Богом и человеком. Поверь, поможет. Согласен?
- А что мне остается делать?
- Принято. Утром поднимаемся, перекусим и пойдем в Сен-Жан. Пешком. Заодно покажу тебе Париж…
РАЗВЕ Я СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ?1307 год по РХ, 9 октября.
Париж и окрестности.
- Сир, у городского прево недостаточно людей и я осмелился бы просить о дозволении включить в состав охраны Snctum Officium не только верных слуг вашего величества из числа свиты, но и мирян, трудящихся во благо святой матери Церкви…
- Если вам будет так спокойнее, я не стану возражать, брат Герард… Поэтому вы привели сюда этого человека?
- Да, сир.
- Подойдите, сударь, - Филипп IV повел ладонью, затянутой в синюю замшевую перчатку. - Мессир Жан де Партене, верно? Прежний коннетабль Орлеана, Бернар де Партене, вам отец?
- Я второй сын его младшего брата, Журдена, погибшего в битве при Куртре, сир.
- Второй? Не наследующий? Поэтому вы пошли на службу к инквизиции? Не нашли иного занятия, достойного дворянина?
Вот что тут ответить? Непонятно, осуждает король твое ремесло или одобряет его.
- Служение Церкви, а в ее лице и Господу нашему, есть дело наидостойнейшее для христианина.
- Мессир де Партене - один из лучших, - вкрадчиво сказал брат Герард Кларенский. - Пользуется моим исключительным доверием и предан вашему величеству в той же степени, что и делу защиты веры…
- Меньше пышных слов, преподобный. Не время. О вашей несравненной памяти ходят легенды, следовательно вы не могли позабыть, как на королевском совете двадцать второго сентября было решено, что обсуждаемые вопросы не должны выноситься за стены Лувра и в них не могут быть посвящены третьи лица. Вы нарушили обещание, брат Герард.
- Вынужденно нарушил, - согласился доминиканский монах. - Появились новые обстоятельства. Если вашему величеству угодно, я готов огласить сведения, пока что известные только мне, мессиру де Партене и, частично, епископу…
- Частично? - поднял брови король. - То есть, его высокопреподобию де Вэру вы доверяете лишь отчасти? Нунцию святейшего Папы?
Брат Герард выкроил на округлой физиономии такое выражение, что заставил Филиппа усмехнуться. Не издав и звука доминиканец будто бы сказал: «Сир, папа Климент - в Авиньоне и полностью в вашей власти, все знают, кто на самом деле повелевает Церковью во Франции. Вы здесь самый главный, поэтому я пришел сюда, а не к епископу. Отчего вы задаете нелепые вопросы?»
- Рассказывайте, - кивнул Филипп и хлопнул в ладоши. Велел заглянувшему на звук камердинеру принести горячего вина, а затем поплотнее затворить дверь. Не впускать никого, за исключением канцлера, если вдруг у Гийома де Ногарэ появится спешное дело к королю.