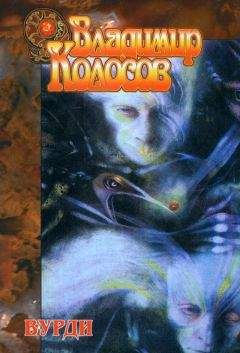Стих и ветер. Лишь изредка его беспокойное дыхание взметало с укрывшего землю белого полотна снежные змейки. Он стал совсем ручным, этот ветер, и уже не швырял в лицо пригоршни обледенелого снега, не норовил забраться за воротник полушубка, лишь униженно ласкал обмороженное лицо охотника, он даже стал теплей, этот ветер, и Гвирнус подумал о том, что к полудню почти наверняка начнется оттепель; впрочем, куда больше охотник думал об Ай-е, чувствуя себя виноватым перед ней: вот ведь как по-дурацки все вышло — и охоты никакой, и в лесу чуть не до утра застрял.
«А пожалуй, что и до утра», — подумал нелюдим, запрокидывая голову и разглядывая посветлевшее от выступивших звезд небо. Полная луна уже катилась к горизонту, а по другую сторону небосвода бездонная чернота линяла, смазывалась, незаметно приобретая предрассветный фиолетовый оттенок.
Приближалось утро.
А за спиной…
За спиной нелюдима творилось что-то странное.
Вот кто-то коротко взвыл, совсем не по-волчьи, потом послышался и вовсе непонятный нелюдиму звук, напомнивший ему треск пожираемых огнем сучковатых поленьев в печи. Кто-то шумно завозился, запыхтел. Раздался удивленный голос бродяги: «Порвал-таки, стервец!» Где-то вдалеке нервно ухнула сова, и за спиной охотника тут же громко и отчетливо откликнулись:
— Р-ра!
Было что-то очень неприятное в этом «р-ра».
Нелюдиму захотелось обернуться (в конце концов он мог и не слушаться какого-то отшельника, хотя что-то внутри охотника подсказывало: да, прав этот лесной бродяга, не надо, незачем ему смотреть, тем более что и не бродяга он вовсе, а…). Отшельник же, будто угадав мысли Гвирнуса, вдруг громко прикрикнул на нелюдима: «Стой как стоишь», — да так зло и властно, что оборачиваться почему-то расхотелось. Зато вдруг страшно захотелось пить, пить, пить, и рука нелюдима уже потянулась к заплечному мешку… А потом замерла…
И опять кто-то взвыл, на этот раз значительно протяжней и громче, так что ночной лес откликнулся гулким эхом. Гвирнус вдруг подумал о том, что и не эхо это вовсе, а стая вновь дает знать о себе. И лишь через мгновение вдруг отчетливо понял: нет, не стая, ибо этот вой был сродни человеческому стону. Впрочем, тут же раздался и стон, совсем уж человеческий, услышав который нелюдим вздрогнул всем телом — столько в нем было и страха и боли.
— Вурди меня сожри! — буркнул себе под нос охотник, тут же услышав, как в ответ выругался лесной бродяга, почему-то виновато и тихо. Гвирнус разобрал лишь последние несколько слов:
— Эх… Если бы не ты… Дурака учить.
Снова кто-то застонал, даже не застонал — глухо и торопливо пробормотал что-то неразборчивое: это еще нельзя было назвать словами, казалось, непослушный язык лишь пробует на ощупь незнакомые, угловатые очертания букв. Потом же, будто выбрав самые подходящие, тот, за спиной, выдавил получеловеческое, полуволчье:
— А-р-р!
И умолк, захлебнувшись этим бессмысленным (если бы не боль) словом.
— Уф! — Гвирнус вытер со лба внезапно выступивший пот. Почувствовал, как в руку ему ткнулось что-то твердое, а голос лесного бродяги прошептал:
— На, возьми.
Нелюдим воткнул в снег древко лука. Ухватил то, что протягивал ему отшельник, мгновение спустя с удивлением обнаружив, что это всего-навсего остро отточенная палка. Не палка — колышек.
— На, пригодится. Возьми.
Сердце нелюдима вдруг болезненно сжалось.
— Ну, долго еще? — чтобы не выдать себя, нарочито грубо спросил охотник, переступая с ноги на ногу холодно ведь на одном месте стоять, этак, глядишь, и ноги поморозить можно.
За спиной кто-то глухо застонал, и теперь нелюдим отчетливо понял: не волк. Человек.
— Точно ведь знает он тебя, — проворчал чуть не в самое ухо нелюдиму бродяга и добавил: — Что ж, смотри.
Гвирнус торопливо обернулся.
Едва не вскрикнул от изумления.
И, почему-то вдруг сразу охрипнув, выдавил одно только слово.
— Ты?!!
1На снегу лежал Керк.
Кожа да кости.
Потому что никакой одежды на нем не было.
На лице, вернее, на том, что напоминало человеческое лицо, ибо так мало было в его выражении человеческого, разорванный в клочья намордник. «Это ж сколько надо силищи, — с отвращением подумал нелюдим, — чтобы вот этак-то разорвать!»
Из голой спины торчало густо оперенное древко стрелы.
Чужой стрелы. Вовсе не из тех, что брал на охоту Гвирнус. Стрела, несомненно, принадлежала бродяге. Тот, заметив пристальный взгляд охотника, поспешил подтвердить:
— Моя.
«А лук? — удивленно подумал Гвирнус. — Зачем же ему нужен был мой лук?»
Хотел было спросить, но не спросил, оставив все вопросы на потом.
Кивнул отшельнику: мол, ясное дело, не слепой.
И снова уставился на Керка.
Несколько лет уже не встречал его нелюдим. Хотя знал, что выгнанные им из нового Поселка Гилд с Керком живут не так уж далеко. Два дня пути. За березовой рощей. Знал, но именно потому обходил тамошние места стороной.
Гвирнус шагнул ближе, пытаясь лучше рассмотреть бывшего врага, которому даже сейчас, после смерти, не мог простить некогда сожженного дома.
Мертвый Керк неприятно поразил нелюдима.
Жизнь в лесу сильно изменила бывшего охотника. Он заметно постарел и теперь ничем не отличался от обычного бродяги. Заросшее щетиной лицо и после смерти выглядело настороженным и злым. Рот Керка был полуоткрыт, он улыбался и скалился одновременно… Вместо волос на голове болталось что-то бесформенное и грязное. Худое тело Керка было исполосовано многочисленными рубцами и ссадинами. Гвирнус попытался вспомнить, были ли они на Керке еще в ту пору, когда они жили в Речном поселке… Вспомнил. Зло стиснул губы, ибо сначала вспомнил горящий дом, вспомнил, как Керк и его приятели обошлись с ним… С Ай-ей… И лишь потом в голове мелькнула безобидная картинка. Он, Керк, кто-то еще… Теплый, даже жаркий день. Река. Вот Керк сбрасывает холщовую рубаху, штаны… С хохотом бежит по отмели… Так были? Нет? Вспомнил. Крякнул. Нет. Шрамы новые. Заработанные уже здесь. В лесу.
— Вурди? — пробормотал чуть слышно нелюдим. — Вурди, — повторил он. Все еще не веря своим глазам, торчащей из спины Керка стреле. Не веря огромной резаной ране на боку убитого, из которой и теперь сочилась, уже застывая на морозе, черная кровь.
— Ну, будет, — почти ласково, по-отечески пробормотал отшельник.
Гвирнус поднял на него глаза. Губы дрожали, он с трудом унял эту дрожь:
— Он мертв?
Старый бродяга покосился на лежащее на снегу тело: