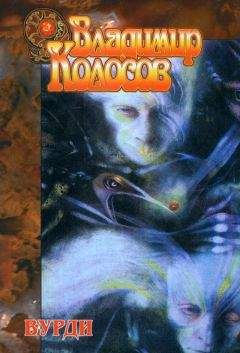Нелюдим вдруг почувствовал, как чьи-то заскорузлые пальцы коснулись его щеки. Едва удержался, что бы не отдернуть голову, — от пальцев воняло потом, плохо очищенным оленьим жиром. Но, преодолев брезгливость, напротив, прижался к этим неумело ласкающим пальцам. И только потом, чуть мотнув головой, оттолкнул их.
Встал.
Взглянул на бродягу.
Тот, сгорбившись, стоял перед ним, смурной, усталый, с усмешкой на губах, за которой пряталось некоторое смущение, — нелюдиму казалось, что лесной бродяга и сам удивлен своим внезапным порывом, столь непривычным для его не менее заскорузлого, чем рука, сердца.
Впрочем, смущение вскоре сменилось обычной настороженностью. Отшельник погладил здоровой рукой сделанную Гвирнусом повязку, будто проверяя, хорошо ли держится, не пропиталась ли уже насквозь, потом прищурился, вглядываясь в предутренние сумерки.
Светало.
Небо на востоке окрасилось мягким розоватым светом, ночная чернота поблекла, истаяла, лес вокруг нелюдима заливала густая умиротворяющая тишина. Утро. Он невольно зевнул и, чтобы поскорее согнать внезапно налетевшую дрему, торопливо зачерпнул полную пригоршню фиолетового снега, растер им обмороженные, почти бесчувственные щеки. Потом окинул внимательным взглядом посветлевший лес — сквозь редкие стволы сосен он теперь просматривался на добрую сотню шагов, и охотнику не составило труда определиться, в какую сторону идти. Хотя можно было и не смотреть. И так ясно — туда, где уже пробиваются сквозь верхушки елей первые лучи солнца…
«Идти-то идти, вот только»… — Нелюдим взглянул на раненую руку отшельника, отметив про себя, что повязка быстро пропитывается кровью. А что, если отшельник (даже теперь Гвирнус не мог называть его иначе), что, если отшельник прав и стая не ушла, а затаилась где-то неподалеку, что, если это и впрямь не волки, а такие же оборотни, как лежащий у ног нелюдима Керк, что, если они и впрямь почуют человеческую кровь?..
— Что будем делать-то? — буркнул нелюдим.
— Идти, — усмехнулся лесной бродяга.
— Куда? — спросил было нелюдим и тут же осекся и сам почувствовал, как глупо звучит этот вопрос. Да. Отшельник на то и отшельник, чтобы уйти одному.
— К жене, — усмехнулся лесной бродяга, — заждалась тебя, поди. — Сказал и нахмурился. Будто не это хотел сказать. Будто что-то совсем другое вертелось у него на языке.
— Сам-то дойдешь?
— Я-то дойду. Глядишь, и Зовушечку мою встречу. Осталось у меня еще. Не все скормил. Ты на то, что ранен, не смотри. Подразню я ее, а потом лепешечку-то свою кину. А одной не хватит, так и все три. Ей хватит. Не то что этому, тьфу! Ему все пять надо было кидать. Возился ты больно долго, — буркнул бродяга. — А Зовушечка, гм… Не тронет она меня. И других не пустит. Покалякаем с ней. — Отшельник усмехнулся. — Ты сам-то, смотри, дойди. Видел я. Каков ты в лесу… — безжалостно сказал он, и Гвирнус аж побледнел с досады — другому бы он такой обиды не спустил. Бродяга заметил это, торопливо прибавил: — Будет тебе. Со всяким бывает. За женкой своей присматривай. Я ведь колчан твой неспроста сжег… Да не в нем, верно, дело… Ты это… Того, кто стрелы для тебя ладил, к себе близко не подпускай. В лес-то с ним не ходил?
— Лай это, — проворчал нелюдим. — Не… Я один.
— И не ходи. Мало ли что. Оно, может, и ошибся я, только твоей стрелой я бы этого, — отшельник кивнул на мертвое тело, — в жизнь не подстрелил… Всякого насмотрелся. Одно тебе скажу. С чужой вещью сладу нет. Коли повелитель какой, так жди глупости или озорства. А коли и настоящая вещь, а у оборотня в руках побывала, так на ней, считай, наверняка сглаз есть. Пока с обычным зверем дело имеешь или, вон как у вас в Поселке, с людьми, оно вроде и ничего. А коли с вурди…
Гвирнус кивнул. Теперь-то, после того как он увидел Керка… Хотя… Что-то уж больно силен этот вурди. По части сглазов. Колдовства. Сомнительно, однако. Коли б и впрямь столь силен был, что аж стрелы заговаривать может, так разве ж извели его в здешних местах? Отшельник на то и отшельник, чтоб никому на свете не верить. А он, Гвирнус, уф! Как Лаю-то после этого в глаза будет смотреть? Не гнать же его, как Керка… Не поймут этого. Да и Таисья, его женка, неплохая баба. С Ай-ей вон сдружилась, дня не пройдет, чтобы одна к другой в гости не шастала. Баба как баба. Нет, какой из Лая оборотень! Это в лесу или где-нибудь на отшибе, вроде Керка, тут понятно — некому на чистую воду выводить. А в Поселке… Среди людей…
Гвирнус сплюнул.
Не нравилось ему то, что творилось сейчас в его голове.
Он и верил, и не верил отшельнику.
Поверишь, как жить-то после этого?
А не поверишь, так вон повязка уж и намокла вся. В крови. Из-за него, из-за неверия — ведь с колышком-то как пень стоял…
Нелюдим вздохнул, взглянул на бродягу:
— Я провожу?
— Ишь провожальщик выискался! На тебя понадейся, — усмехнулся отшельник, однако глаза его заметно потеплели. Что-то даже блеснуло в них. — Не надо. Обойдусь, — нарочито хмуро добавил он.
— Ну тогда прощай, — тихо сказал нелюдим, прилаживая башмаки к обледеневшим креплениям лыж. — Авось свидимся! — Он поднял брошенный в снег лук.
— Езжай! — сухо сказал бродяга.
Гвирнус в последний раз взглянул на его хмурое лицо, изрядно порванный полушубок… И направился к дому.
1Не пройдя и полета шагов, нелюдим обернулся. Сквозь редкие стволы сосен было хорошо видно маленькую фигурку, которая так и не двинулась с места, будто ждала кого-то; бродяга лишь вытащил невесть откуда лук, озабоченно осматривал его… «Видать, тетива-то лопнула. Потому мой и стащил, — подумал нелюдим, — а свой-то у костра лежал. Под снегом. Вот я и не приметил поначалу. Оно и верно. Глупо по лесу без лука шастать. Тоже небось на охоту ходил».
Гвирнус поправил на спине мешок, повернулся было идти дальше и… остановился.
Ибо прямо перед собой он увидел ее.
Волчицу.
Не слишком крупную. С острой мордой (пасть приоткрыта, язык свешивается чуть набок. «Почти как у собаки», — отметил нелюдим). Шерсть на холке короткая, ровная, будто причесанная. Лапы расставлены в стороны — непохоже, чтобы она собиралась прыгать. Скорее — не торопясь, подойти поближе. Посмотреть человеку в глаза.
Она и подошла. Осторожно. На пару волчьих шажков. И снова остановилась, чуть поводя мордой из стороны в сторону, будто принюхиваясь…
«Чует?» — подумал о промокшей насквозь повязке на руке отшельника нелюдим. Волк? Оборотень? Или та самая, которую полусумасшедший бродяга так ласково называл Зовушкой. Для которой таскал за пазухой запекшуюся, раскатанную в лепешки кроличью кровь? Значит, вурди? Или все-таки волк? Нет, почему-то подумалось нелюдиму, именно Зовушка — уж больно внимательно смотрела эта волчица на него, словно вспоминала: видела ночью? нет? Он? Или еще невесть кто свалился на ее голову…