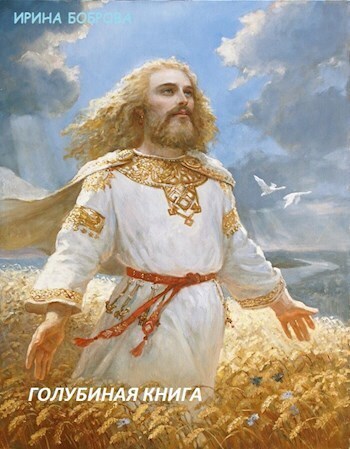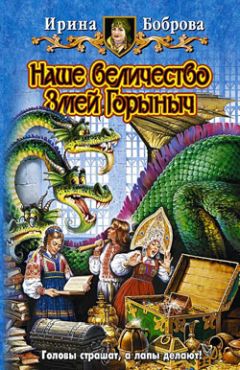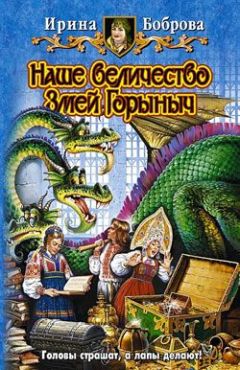лестнице затаилась, речи боярские подслушивает. Сколько раз её заставали за этим занятием, выговаривали не однажды, а ей всё едино. «Я так уму — разуму учусь», — отвечала она и сёстрам, и мужу.
— Что Потапушка, супруг мой единственный?! — Радостно воскликнула Елена Прекрасная, выскакивая из — за занавески, висевшей на дверях, что вели в горницу царицы Кызымы. Пока родители отсутствовали, в комнате детскую устроили, царевича Владея там растили. Воевода так рассудил: «Раз уж родителей нет рядом, пусть хоть вещи их, какими неоднократно пользовались, на виду у ребятёнка будут — какая — никакая, а всё память об отце с матерью».
— Еленушка, нет ли у тебя соли нюхательной, какой ты в прошлый раз, в аккурат после пира в день появления царевича Владея на свет, протрезвляла меня, да едва не отравила?
— Да куда ж без неё? Без нюхательной соли приличные бабы в высшем обществе осуждению предаются, потому как нарушение приличий светских нигде не приветствуется. А потравить я тебя не желала, ты сам решил, что её скушать надобно и водой запить, а я и слова молвить, дабы остановить тебя от поступка опрометчивого, не успела, ибо испугалась, что ты всю соль, нашатырным ароматом благоухающую, съешь, и не подавишься, а новую не скоро случится получить, потому как а вдруг с доставкой оказии не буде…
— Еленушка, я ж тебе потом того нашатыря ароматичного цельный бочонок доставил!
— Так пока ты, Потапушка, доставил, я ж как простушка чего попало нюхала, дюже неприличная вся такая ходила. — Елена изящно взмахнула ручкой, прижала ладонь внешней стороной к глазам и запрокинула голову. — Я нервенная такая сделалась, пока тот бочонок с солью пришёл, а попробуй не сделайся, ежели селёдку нюхать пришлось, да огурцы солёные с грибами. А в других случаях соль совсем без запаха.
— Не в обиду тебе сказано, но помню, Еленушка, ты селёдку ту с огурцами не только нюхала, ты её ещё и трескала за обе щёки.
— Фи, как не красиво! Порядочные бабы не трескают, а изволят откушивать.
— Елена!!! — Взрычал воевода, теряя терпение. — Дай мне соль ароматную, какую ты в руке держишь, дабы принёс я жертву нашатырную Стрибогу и избавил его от похмелья!
— Ты!.. Ты!.. Ну ты!.. На! — И Елена Прекрасная, сердито топнув ногой, запустила в мужа флакончиком из венецианского стекла.
Потап и сказать ничего не успел, и сделать тоже: разбился флакон, встретившись с деревянным, но таким твёрдым, словно он был каменным, идолом. Упал на голову Рода великого, венчающую четырёхликую фигуру, и брызнул по сторонам сотней мелких осколков. Раствор ароматной соли растёкся на полу едкой лужей. Бояре к окнам кинулись, ставни давай открывать — до того ж запах гадок был! Драло глотки, выедало глаза, а уж о том, чтоб дышать полной грудью, и речи не было: как вдохнули люди нашатырного аромата, так выдохнуть не смогли.
— Зато ветер стих, — просипел Потап, одно за другим распахивая окна.
Бояре, кто пошустрее, по пояс с подоконников свесились, кое — как продышались, да назад, в горницу думскую попадали, уступая место другим.
— Ты голову не грей, да душеньку не грузи, — услышал воевода.
— Ты о чём, Домовик?
— О том, что гуляли всем сонмом, и на скорое протрезвление не обидятся, ибо дело сделал полезное и праведное. А вот ставеньки — то лучше позакрывать, а то как бы ненароком ветром кого в окна не вынесло.
— Так стих ветер — то, Домовик! Видно, унялся Стрибог, успокоился.
— Да не, ты — то сам, аромату этого нюхнув, чего сделал?
— Да что тут сделаешь? Вдохнул, а выдохнуть не могу. Замер, да глаза выпучил. Только спустя времени немного обрёл способность дышать. А глаза до сих пор нашатырь жжёт — вон, слёзы текут.
— Вот и я о том, — как ни в чём не бывало, продолжил Домовик. Он сидел на прежнем месте, и тянул лыко, заканчивая плести второй лапоть. Едкий запах нашатыря на него почему — то не действовал. Потап то и дело сморкался и кашлял, а домовому хоть бы хны.
— Да ты говори яснее, к чему такие намёки туманные выдаёшь? — воевода нахмурился.
— Да куда уж яснее: ставни позакрывай, ибо Стрибог сейчас вдохнул твоей жертвенной нашатыревой вони, и замер. А ведь скоро выдохнет, да и слёзы тоже потекут. То ветер был, а теперь ещё с дождём да градом начнётся, и будет натуральная буря, ибо чихать да плакать в Ирие все сподобятся.
Но Потап уже не слушал — от окон бояр оттаскивал, да ставни захлопывал. Едва последние затворил, как тут же царский терем тряхнуло. Ветер завыл, зашумел пуще прежнего.
Раздался треск, о крышу что — то грохнуло и покатилось.
— Деревья с корнем выворачивает, — сказал воевода, успокаивая перепуганных бояр.
Бояре обречённо вздыхая, расселись по лавкам. Они уже третий день заседали, буря их в царском тереме застала, пришлось поневоле дела государственные сверхурочно вершить. Ели тут, и спали тут же, на лавках.
— Мне до нужника б, — шепнул Потапу Незван — толстый боярин, одетый в соболью шубу. Носил он эту шубу уж года четыре — с тех пор, как царь Вавила за хорошую службу со своего плеча снял и ему на загривок накинул. Ни летом, ни зимой не вылезал из неё. Те бояре, что раньше смеялись над странностью соратника, теперь с завистью поглядывали на шубу. Холод за стенами терема стоял натурально собачий, а одеты все были по погоде, которая в день созыва думы теплом радовала. А счастливый обладатель шубы наотрез отказывался поделиться, и никому не позволял погреться, укутавшись в соболий мех, хоть изрядно потёртый, но тёплый.
— Так иди, кто запрещает — то? — пожал плечами воевода.
— Да боюсь, понесёт меня ветром, и улечу, аки птица гордая, в поднебесье.
Потап с сомнением глянул на круглощёкого, толстого, с большим животом, Незвана, и хмыкнул:
— Нет, боярин, улететь не ты не сможешь, больно ты толст да тяжёл. Ежели только укатиться получится, так тоже не гордой птицей, а круглым колобком.
— Да хоть и колобком, — не стал спорить боярин, — хоть и укатиться, лишь бы в нужном направлении. Уж мочи нет терпеть, как до отхожего места надобно.
Потап снял с крючка верёвку, привязал один конец к ноге Незвана, и говорит:
— Пойдём, страдалец, подсоблю. Только смотри, шубу — то запахни потуже, чтобы на манер паруса полы не раздувались. — И крепко держа в руке другой конец, направился к двери.
Тут небо потемнело, будто туча чёрная опустилась во двор, свет заслонила.
— Куда?! Стой, Потап, не ступай за порог! —