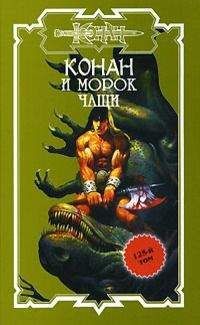— Запомним, Брога. Разломим на двоих, — сказал княжич, посмотрев слобожанину глаза в глаза, и принял накидку.
Он не заметил, как дрогнула рука Броги, который вдруг увидел, что глаза княжича смотрят по-разному: правый глаз вроде бы ясно видел Брогу, а левый смотрел так, будто и не было перед княжичем никакого Броги, а была лишь одна пустая даль, до края которой никакой птице не долететь, не растаяв раньше в небесах.
Брога испугался, но вида не подал, а как только отвернулся от него княжич, быстро пробежал пальцами по холодным от воды ожерельям, висевшим на груди, и вычертил перед собой охранительный знак — круг, пересеченный косым крестом.
Княжич, как шел, так и шел себе — не рассыпался пучками гнилой соломы, не разлетелся вороньими перьями, не заверещал, проваливаясь в землю, захлебываясь ею и цепляясь за кочки огромными синими ногтями, какие вырастают у заложных мертвяков. Даже не запнулся ногой.
«Помстилось», — легко вздохнул воин и, поспешив взобраться первым на береговую крутизну, подал княжичу руку, а уж потом вывел за поводья наверх и тянувшуюся следом кобылицу.
Жеребенок, не справившись со своими ходульками, застрял на осыпи. Тогда сам княжич живо спрыгнул обратно и приподнял малого. Тот забрыкался было, но тут же затих.
«Чует, признал живого», — вновь с облегчением вздохнул Брога.
Отпустив наверху жеребенка, сын северского воеводы с наслаждением понюхал ладони.
— Видать, тоску избывал княжич, — заметил воин.
Внизу, на ромейском корабле, уже бойко копошились, но весел пока не выставляли.
— У нас на Большом Дыму должны знать, — сказал княжич, полагая, что все же стоит поторопиться. — Вчера пустили на берег вестового.
Луга быстро светлели, а лесная гряда на востоке наливалась густой рассветной тенью. Темное облако турьего стада вновь приникло к земле и, заполонив собой всю полуденную сторону земного окоема, окуталось тяжелым паром.
Брога смотрел в другую сторону, следя за мельтешившим у перелеска лисьим выводком.
Вдруг он рассмеялся, и княжич сердито толкнул его в плечо:
— Делись.
— Чего хочешь, княжич? — спросил Брога, хитро прищуриваясь.
— Домой. Более ничего. Ни спать, ни есть.
— Не дожидаясь? — чуть помолчав, проговорил Брога; его смутило, что княжич как бы наперед отказывается от еды, и, если блюсти себя, как полагается, то вновь потребен заговор против блазна и всякой нечисти; откуда ни посмотри, негоже встречал он княжича… — Как же без величания?
— Пусть ромеи дожидаются, — отмахнулся княжич, не заметив перемены в голосе воина, ибо сам еще не съел чудесных ушей цареградского силенциария. — Им величания — вместо хлеба.
— Вот и смекай, княжич, — заговорил Брога уже смелее, потому как тайно пошевелил пальцами у него за спиною, просыпав на землю щепоть обережной соли. — Хочешь добраться скорей — срезай дорогу через Лисий Лог, по новым палям. Там жгли поверху, да Лог не удержали. Выгорел весь до самой реки, как солома в лодье. Так с весны чернота и лежит. Гляди, сами, как шиши болотные, почернеем. Всю свою родню распугаешь, княжич… А родова-то тебя из ирия[21] ждет с белыми крыльями, будто лебедя…
Княжич искоса посмотрел на воина, тот — на княжича, и лисята, забыв про перепелов, сорвались и дунули в перелесок, спасаясь от страшного человечьего хохота, раскатившегося по всей округе.
Воин радовался: княжич смеется вместе с ним, а смеются только живые. И увидев, как вила взмахнула крыльями от чудских болот до самого Дикого Поля, он бросил поводья и устремился вверх по склону пологого холма, прямо по густой и высокой, отяжелевшей от холодной влаги траве. Кобылица со своим малым припустили за ними вдогонку.
Княжич, не видевший никакой вилы, невольно поддался порыву, и на вершину возвышенности поспел вместе с воином в тот самый миг, когда первый солнечный луч вспыхнул над волнами самых далеких лесов и небесным благословением позолотил землю.
— Первый свет — первый поклон твой, внук Сварогов, — часто дыша, выговорил Брога.
Он опустился на колени и раскинул руки.
Как раньше, в детстве, княжич прищурился, рассыпав солнце пучками огненных стрел, и так же невольно, шепотом, стал повторять за Брогой древнее славословие солнечному божеству.
И вдруг опомнился, и широко раскрыл глаза, и воззвал к Богу небес и земли по-эллински:
ОТЧЕ НАШ, СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ,
ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ…
На последних словах молитвы уже не хватило силы сдержать поток света. Княжич опустил веки — и золотой круг остался висеть перед его глазами в багряной плоти предвечного Хаоса.
Стоило вновь открыть глаза, как посреди лугового простора появился град, окруженный белокаменный стеной, а в его сердцевине, в самом кремнике — белый храм с крестом на таком же пологом, как этот холм, золотом куполе.
Каждый видел свое.
Брога — то, что заповедали видеть своим потомкам древние пращуры. Пред тем, как покинуть явь, они холодеющими пальцами перебирали, не поднимая век, свою дорожную поклажу, уже пахшую землей, и вещали в предсмертных снах о мутных глубинах нави и о прозрачных, как слово изреченное, высотах прави[22]. Об оке Даждьбожьем, что, видя мир, оживляет его, не различая слезы и дождевой капли, горячей струи крови и весеннего ручья, первого снега и погребального пепла.
Княжич Стимар видел только свой замысел, заповеданный ему в Царьграде человеком, более далеким по крови, чем самые украинные роды, уже смешавшиеся на одну треть с хазарами, на вторую с уграми, а на последнюю — с кочевыми степняками, кровь которых по цвету и запаху похожа на сгоревшее поле пшеницы.
Он уже принялся возводить вторую стену, ибо град его стремительно ширился, прорастал улицами и посадами по холмам и равнинам куда быстрее весенних трав, когда воин Брога из Собачьей Слободы посмотрел на княжича и напугался в третий раз.
Воин выдохнул еще один обережный заговор, самый сильный из тех, какие знал. От этого заговора у него даже зарябило в глазах, и ему самому показалось, будто земля разверзается под ногами и теперь неведомо, кто из них двоих переметный покойник, прикинувшийся живым.
Брога тряхнул головой, пргоняя морок. Оба остались стоять на месте, и тогда воин осмелился и прямо спросил:
— Ты ли, княжич? Ответь пред оком Дажьбожьим.
Кто бы ни был перед ним, теперь уж обязан был ответить начистоту.
Тогда град растаял в лучах ока Даждьбожьего, и княжич, взглянув на воина, догадался наконец, что тому сделалось страшно.