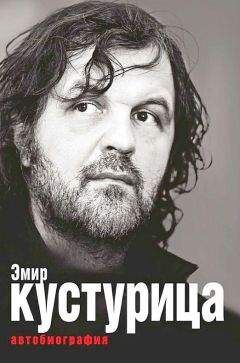Все сливалось воедино – хриплые крики и ржание бесившихся коней, багровый туман, застилающий глаза, и рыжее пламя, с костров перекинувшееся на палатки. Последнее, что Монтекки увидел, прежде чем его оглушили – отрубленная рука, лежавшая на земле. Рука, не выпустившая меча.
Меча Гоффредо.
Кляп затыкал рот, лицо прикрывала рогожа, голова раскалывалась, и казалось, что долетавшие до него голоса раздаются в бреду. Но уж слишком знакомы были эти голоса.
– Почему, мессере? Это было бы безопаснее. И какая разница, где он умрет – здесь или в Венеции? – Это Лукезе.
– Если б не было разницы, я бы устроил так, чтобы в вино для него трактирщик добавил яд, а не сонную настойку. – Голос Камерини.
Яд…снотворное… что-то такое уже было. Но давно…и не с ним, не с ним…
– Не все его люди убиты. Уцелевшие прячутся где-то за холмом и могут попытаться отбить его.
– То, что они уцелели – это ваша вина, Лукезе. Поэтому его должны везти тайно. Что до прочего… В Совете желают лично убедиться, что предатель получит по заслугам. Как раз то, что ему обещано. Его вознесут выше всех. На самой высокой виселице.
Лукезе хохотнул.
– Меня-то вам так поймать не удастся. Я получу то, что мне обещано.
– Безусловно, синьор Лукезе, безусловно.
И они везли его тайно, в повозке или в лодке, натянув на голову мешок. Монтекки не мог угадать, что это за дорога. Лукезе среди тех, кто охранял пленника, не было. Несомненно, подлый венецианец разделил свой отряд, дабы сбить с толку солдат Монтекки, на тот случай, если они вновь объединились и собираются напасть и освободить своего командира. А вот голос Камерини он порой слышал. Возможно, тот заботился, чтоб пленник не сбежал – своими методами, подбавляя дурман в питье.
Все кончилось внезапно, когда проклятый мешок сорвали, а благословенный клинок разрезал путы на руках и ногах. Ледяная вода, обрушившаяся на голову, изгнала вялость и отупение. Итак, его все-таки отбили.
Но лица тех, кто окружали его и поднимали на ноги, были Монтекки незнакомы. Не видел он и Камерини. Похоже, радоваться было рано.
Они находились на каком-то постоялом дворе, и Монтекки препроводили в зал. Поставили перед ним миску с полентой и кувшин вина – но он, памятуя о недавнем отравлении, к угощению не притронулся. Зал был пуст, но снаружи гомонили, и он не сомневался, что за выходом наблюдают.
Затем дверь открылась и вошла женщина – светловолосая, черноглазая, в дорожном платье, с приколотой к вороту веткой жасмина. Поверх платья на сей раз была не кираса, а кольчуга, и видно была, что женщина тонка и стройна, как в те давние времена, когда бедный Паломник воспевал незаконную дочь герцога Веронского как девственную Диану.
Стало быть, он попал из огня да в полымя.
– Итак, синьор Бенволио – или по нынешним обстоятельствам вас лучше называть Мальволио? – рада вас видеть.
– Не могу сказать того же, -буркнул он.
Розалина делла Скала села за стол напротив него.
– Отчего же? Вряд ли я ужаснее Совета Десяти вместе с дожем. Выходит, правду говорят, что они заботятся, чтоб их кондотьеры не одерживали слишком больших побед и не возомнили о себе… Прошу прощения, не могла подоспеть раньше. Мне надо было вернуть своих детей, да и роды требуют некоторого времени.
– Роды? Ах, да…
Она с гордостью кивнула.
– Отличный крепкий мальчик. Никколо был бы доволен.
– Но Николо не был его отцом.
– Это неважно. Он видел, из кого получится воин.
Видимо, отрава еще продолжала действовать. Иначе с чего они сидят и ведут светскую беседу – после всего, что было? И что, собственно, было?
– Как вам удалось отбить меня?
– С помощью вот этого. – Она подняла два пальца – указательный и средний. Этот жест, пришедший из Византии, означал «удваиваю цену» и был знаком каждому наемнику. – Я купила вас у людей Лукезе. Впрочем, любая сумма, которую бы я предложила, устраивала их больше чем, что требовал у Совета их командир.
– А что он требовал?
– Свою конную статую на площади Сан-Марко. Совет пообещал. Лукезе хотел потешить свое тщеславие, а солдатам что с того? Им сольди нужны. И они оптом продали мне и вас, и Камерини. Кстати, о том, что вы в плену, мне рассказал один из ваших людей, прибившихся к нам. Угоне….или Угуччоне? Так вот, он отказался от своей доли в контракте, при условии, что ему позволят лично задушить Камерини. И я разрешила. В некоторых просьбах мужчинам так трудно отказать…
Монтекки отпил вина. Нет, эта травить не станет, у нее другие методы.
– Откуда у вас столько денег? – осведомился он.
– Я продала Сермонету графу ди Фонди.
– Что?
– Переговоры об этом шли уже давно. Оттого-то Онорато Гаэтани и поспешил ко мне на помощь, а вовсе не из рыцарского благородства. Он не хотел, чтоб город, предназначенный ему, был разрушен. Да, синьор Бенволио. Пятьдесят тысяч дукатов. С учетом того, что я укрепила замок, а Джанни выстроил дворец, все это стоит вдвое дороже. Но, поскольку мне через родню отца стало известно, что Сермонету собирается захватить Святой Престол, я могла бы не получить и этих денег.
Монтекки не ответил. Теперь он понял, о чем умолчал Камерини, и для чего республике понадобились дети графини. Не для торга с Розалиной дела Скала. В будущих переговорах с папой законные наследники Сермонеты могли являть собою полезные фигуры. Но графиня успела сделать ход первой.
– Впрочем, теперь это забота Гаэтани, не моя. Большую часть денег я перевела своему банкиру, а остальное потратила на вас.
– Месть – такое сладкое блюдо, что на него и золото не жалко, верно?
– Нет, синьор Бенволио. Теперь моя очередь задавать вопросы. И как раз о мести. Хотя моя мать была из рода Капелли, ваша семья никогда не считала меня своим врагом. Стало быть, дело не в родовой вражде. Вы ненавидите меня, синьор Бенволио, лично вы. И мне стало любопытно – за что? Я не причинила вам зла, мы и знакомы почти не были…
– Паломник, – сквозь зубы произнес Бенволио.
Она сдвинула брови.
– Вы о ком?
Монтекки сухо рассмеялся.
– Он любил вас, боготворил, а вы его даже не помните. Проклятье! Если бы вы не оттолкнули его, он бы не спутался с этой…
– А, так вы о Джанфранко говорите! Он и кузина… как ее… Сильвия, Джулия? Маленькая такая, черненькая… я плохо знала ее. Но почему вы называете его Паломником?
– Он в детстве сильно болел, боялись, что не выживет. И возили в Рим, к раке святого Петра. Оттого в семье его и звали не иначе как «Ромео» – римский паломник. – Воспоминания детства смягчили его голос, но лишь на миг. – Он был не только моим братом. Он был моим лучшим другом. Не было никого на свете дороже для меня. Чем он. А ты убила его. Своим равнодушием, своим бессердечием, свое жестокостью. И ты забыла всю эту историю – ведь тебе не пришлось тогда страдать, хотя погибли и твои родные. Паломник был прав – ты не можешь, не способна любить…