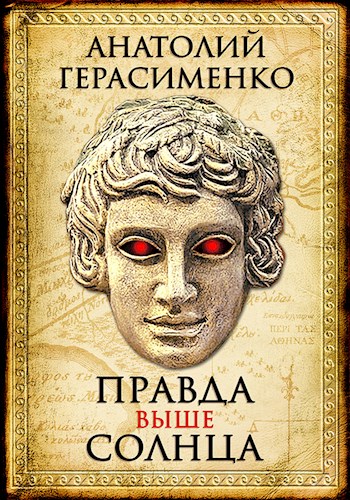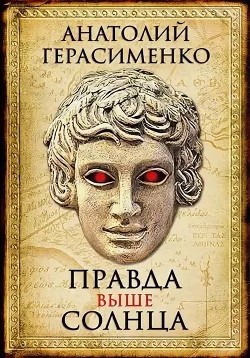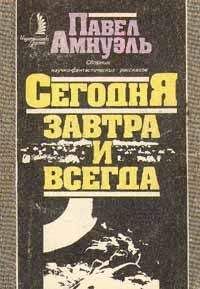руками, – погибнут, наверное. Ведь так?
Кадмил хмыкнул и, перегнувшись через лошадиный бок, сплюнул в пыль.
– Конечно, погибнут, – сказал он легко. – Рано или поздно. В конце концов, такова участь всех смертных, а?
Акрион засмеялся. Всё было в порядке. Гермес просто хотел преподать ему урок – и преподал. А что Акрион по недомыслию урок не понял – это уже только его, Акрионова беда. Впрочем, авось, ещё выдастся случай понять.
Они проехали в молчании весь остаток дороги между Длинных стен до Пирея и дальше, через Пирей к гавани. Кадмил был занят думами, божественными размышлениями, которых Акрион, скорей всего, не смог бы постичь, даже если бы старался изо всех сил – по причине ограниченности человеческого разума. Поэтому он не пытался вызвать Кадмила на разговор. Тем более что собственные мысли не давали покоя. Кололи, терзали, жгли.
«Не знал правды, – твердил про себя Акрион, как заклятие. – Не видел правды. Меня захватила воля Семелы, и кровь отца – на её руках. А сама Семела? Кто повинен в её гибели? Наткнулась на статую. Убила – буквально! – сама себя. Но почему тогда так тошно, словно бы сам её зарезал? И эринии, проклятые чудовища, они тоже винят меня в её смерти. Да, я впал в буйство, она испугалась, выбежала без огня в темноту, и от этого случилось всё дальнейшее. Только ведь и само буйство – это проклятье Пелонидов, моего преступления здесь опять-таки нет. Отчего же так погано на сердце?!»
Что-то коснулось ноги Акриона. Вокруг шумел порт, как всегда, полный моряков, торговцев, снующих туда-сюда рабов, мастеровых в пыльной одежде – и нищих. Слепой попрошайка, сидевший у дороги, тянул вслед путникам сложенные пригоршней ладони, хрипел беззубым ртом: «Монетку, добрые люди, не найдётся ли монетки?»
Акрион содрогнулся при виде его покрытых струпьями век. Натянув поводья, остановил лошадь, нашарил в сумке кошель и бросил нищему серебряную чешуйку гемиобола. Тот благодарно забормотал, а Акриону вспомнился другой слепец, Эдип, невольный отцеубийца. «Те, кто не знает, что такое зло, стремятся не к нему, а к тому, что кажется им благом, оно же оказывается злом», – писал Сократ. Эдип, как и Акрион, не знал, кого убивает; он хотел защитить свою честь, восстановить справедливость, стремился к благу. Так же и Акрион, стараясь как можно лучше сыграть роль, желал добра.
«На словах просто различить хорошее и дурное, – с тоской подумал Акрион. – На деле же осознаёшь всё слишком поздно. Ох, если бы знать тогда, знать всё заранее! Только сейчас понимаю, что Сократ имел в виду, когда говорил, что знание – величайшая добродетель».
Тем временем под лошадиными копытами скрипнули доски причала, вокруг замаячили лодочные невысокие мачты. Фелука, которую накануне вечером присмотрел Акрион, покачивалась на волнах, привязанная к массивным, позеленевшим от морской влаги бронзовым кольцам. Тут же, на причале стоял её хозяин, загорелый рыбак, одетый в обтерханный, точно у раба, гиматий – прямо на голое тело.
Кадмил, спешившись, коротко переговорил с хозяином, дал ему пару серебряных сов. Спрыгнул в лодку, призывно махнул рукой.
– Залазь, первейший из граждан! – крикнул он. – Времени до ночи мало, Кронос ждать не умеет!
Первейший из граждан… Намеренно ли Кадмил процитировал Софокла, или просто к слову пришлось? Как бы то ни было, натренированная память Акриона ухватилась за строчку и принялась разматывать нить монолога. «Сойдя в Аид, какими бы глазами я стал смотреть родителю в лицо иль матери несчастной? Я пред ними столь виноват, что мне и петли мало!» Слова бились в голове, пока Акрион широкими гребками выводил фелуку на большую воду, пока, прощаясь, глядел на исполинские, утренней дымкой затянутые силуэты Афины и Аполлона. «А город наш, твердыни, изваянья священные богов, которых я себя лишил, несчастный! Я первейший из граждан здесь…»
– Суши вёсла, – велел Кадмил. Он успел надеть диковинное чёрное платье и возился, привязывая себя за талию к скамье верёвкой. – Сейчас поедем с ветерком.
Акрион покорно кивнул. «О, если б я был в силах источник слуха преградить, из плоти своей несчастной сделал бы тюрьму, чтоб быть слепым и ничего не слышать. Жить, бед не сознавая, – вот что сладко…» Он уложил вёсла вдоль бортов, сел, покрепче упёршись ногами в днище.
Что-то щелкнуло внутри Кадмилова костюма. Лодка тронулась и пошла, набирая скорость, всё быстрей и быстрей. Акрион сощурился, отёр лицо от морских брызг.
– Если хочешь, можешь дрыхнуть, как в прошлый раз, – разрешил Кадмил. – Толку от тебя в дороге всё одно никакого. Подай-ка сюда только вон тот пузырь, а то на солнышке нагреется.
Акрион передал ему мех с разбавленным вином, лежавший под скамьёй. Кадмил взвесил мех в руке, приложился, сделал глоток. Тряхнул волосами, гикнул. Лодка рванулась вперёд, присела на корму, из-под носа вырвались буруны.
– О-хэ! – воскликнул Кадмил. – Этак еще до темноты долетим!
Акрион кивнул и полез под лавку, где лежала свёрнутая коровья шкура. Укрылся с головой, поёрзал в поисках удобного положения. Грудь и спину ломило после давешней вспышки в дворцовом подвале, когда он вырвал из стены крюки, к которым был привязан – и после всего, что случилось затем. После страшной, отвратительной бойни. «Но речь вести не должно о постыдном. Богами заклинаю: о, скорей меня подальше скройте, иль убейте, иль в море бросьте прочь от глаз людских!» Иль в море бросьте прочь от глаз людских… Он тихо застонал – как стонут от сильной боли, не желая того.
– Эй, – позвал Кадмил негромко.
Акрион выпростал голову из-под шкуры. Кадмил глядел просто, без насмешки.
– Я знаю, каково тебе сейчас, – сказал он.
«Знает? – недоверчиво подумал Акрион. – Сын самого Зевса, бог хитроумия и озорства? Как он может знать о таком?»
Кадмил кивнул, словно услышал его мысли.
– Это пройдёт, – сказал он. – Если станет совсем паршиво, просто помни, что это пройдёт. Забудешь. Привыкнешь. Правда.
Акрион качнул головой, не зная, что ответить. Снова укрылся шкурой.
Лодка подрагивала, разрезая волны. Пахло смолой, солью, мокрым деревом, рыбьей чешуёй. На корме вновь послышалось бульканье, затем Кадмил замурлыкал под нос песенку. Акрион без особой охоты прислушался.
Собака сказала кошке: не злись, сестрица!
Давай-ка больше не будем с тобой спорить.