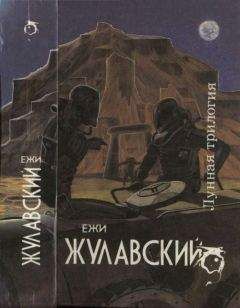Потом мы смотрим телевизор: Надежда Анатольевна в кресле, а мы с Никой — на диване. Идёт сериал, и взгляд Надежды Анатольевны прикован к экрану: она увлечена развитием сюжета, и реальный мир для неё сейчас просто не существует. Пока она не видит, я тихонько прижимаюсь к Нике и кладу голову на её плечо. Я делаю это безо всякой задней мысли, просто потому что мне хорошо и уютно здесь, с ними, а она заметно напрягается от моей близости. Я не знаю, то ли ей это неприятно, то ли слишком волнует её — как бы то ни было, я решаю пощадить её чувства и немного отодвигаюсь. Но мне грустно.
Уже одиннадцатый час, и я говорю:
— Засиделась я у вас… Не хочется уходить, но всё-таки пора и честь знать.
Надежда Анатольевна радушно предлагает мне остаться ночевать:
— Да оставайся, куда ты на ночь глядя пойдёшь? Место есть.
Она намекает на диван, освободившийся после ухода мужа. Мне и вправду хочется сегодня остаться, но какое-то шестое (а может, седьмое или восьмое) чувство подсказывает, что следует всё-таки уйти. Что-то сдвинулось в существующем положении вещей, хотя я пока ещё и сама не могу точно сформулировать для себя, что именно; мне нужно подумать над этим, а для размышлений мне необходимо уединение — клочок личного пространства, в которое никто не вторгнется.
— Да нет, надо идти, — вздыхаю я.
— Ника, тогда проводи Настю, — говорит Надежда Анатольевна.
Ника, язвительно усмехнувшись, отвечает:
— За ней есть кому заехать. Стоит только позвонить, и личный водитель сразу примчится.
— Я не буду сегодня никому звонить, — говорю я. — Прогуляюсь пешком. — И добавляю, обуваясь в прихожей: — И нет у меня никакого личного водителя.
Ника стоит, прислонившись к дверному косяку и сверля меня пронзительным, колючим взглядом.
— Как же нет, когда я видела его своими глазами?
Это портит уютную и безмятежную атмосферу этого вечера, у меня снова становится мрачно на душе. Теперь мне точно нужно уйти, чтобы успокоилась всколыхнувшаяся со дна моей души печаль. Надежда Анатольевна не понимает, в чём здесь дело, и смотрит на Нику с недоумением:
— Ты что стоишь? Проводи Настю хотя бы до остановки. Настя, — обращается она ко мне, — пешком не ходи, садись на автобус или маршрутку.
Ника смотрит на меня пристально.
— Ты хочешь, чтобы я тебя провожала? — спрашивает она.
— Хотела бы, — отвечаю я. — Но не настаиваю, если тебя это затруднит.
Надежда Анатольевна, по-прежнему недоумевая, переводит взгляд с меня на Нику и обратно.
— Девочки, да в чём дело? Что вы рядитесь? Ника, иди, провожай Настю.
Ника без дальнейших пререканий обувает свои полукроссовки и надевает жилетку. Мы выходим на вечерний прохладный воздух, к шелесту ив и стрекоту кузнечиков в траве, Ника молча шагает рядом со мной, держа руки в карманах. В молчании мы доходим до остановки, и Ника, собираясь ждать вместе со мной автобус, закуривает. Я забираю у неё сигарету и кидаю в урну.
— Бросай курить, Ника, — говорю я, дотрагиваясь до её щеки. А про себя шепчу: «Именем Света, изыди, лукавый!» И добавляю вслух: — Это же такая вредная для здоровья гадость!
— Я сама решу, когда мне бросать, — отвечает Ника холодно.
Она закуривает новую сигарету, но внезапно начинает кашлять и давиться. Прижав руку к горлу, другой она хватается за столб остановочного павильона и мучительно, натужно кашляет, потом склоняется над урной, и с её губ падает смолисто-чёрная, тягучая гадость. Понемногу кашель унимается, и нормальное дыхание возвращается к ней. Пошатываясь, она опускается на скамейку, я сажусь рядом и обнимаю её за плечи, и она постепенно приходит в себя.
— Господи, что это было? — хрипит она. — Пакость какая…
— Эта пакость попадала в тебя с каждой затяжкой, — смеюсь я.
— Никогда больше не буду курить, — хрипло шепчет она. — Это ты… Это ты как-то сделала?
— Я только пожелала, чтобы ты бросила эту вредную привычку, — отвечаю я. — Остальное доделал твой организм, откликнувшись на моё пожелание.
— Ф-фу, — ёжится она, передёрнув плечами.
Пачка сигарет летит в урну, я одобрительно киваю.
— Молодец. Мама будет очень рада.
Ника всматривается в меня, и в её взгляде что-то новое — какое-то изумление с примесью испуга.
— Ты сказала «гадость», и я в самом деле почувствовала, какая это гадость, — говорит она. — Ты что, мне это внушила?
— Скорее открыла тебе глаза на правду, — усмехаюсь я. — Потому что это действительно гадость.
— Но как ты это сделала?
Как? Откуда у меня эта способность изгонять из людей всякого рода пакости? Опухоль Дианы, якушевское коварное угощение, вот сейчас — эта дрянь? Я и сама толком не знаю. Может быть, так надо? И что за копьё я держала в руках? Может быть, ту самую святую реликвию, которую все ищут? У меня нет ответов, а количество вопросов день ото дня растёт. Я ничего не могу объяснить Нике: на моих устах лежит печать, наложенная рукой кудрявого мальчика, моего ангела. Я могу сказать только:
— Наверно, я смогла это сделать, потому что я очень, очень тебя люблю.
Проехала моя маршрутка, но я в неё не села: мы с Никой стоим обнявшись, и нам плевать, что кто-то смотрит. Кому какое дело? Мы идём пешком, держась за руки, а над улицей медленно сгущается синева. Звонит Костя, но я не отвечаю: подождёт, никуда не денется. Ника вдыхает полной грудью:
— Дышится-то как! Наверно, это потому что та дрянь из меня вышла. И знаешь, курить совсем не хочется.
Вот уже мой дом, в окнах уютно горит свет. Пора прощаться, но мы всё никак не можем разнять руки. По моему телу пробегают мурашки, у меня вырывается судорожный зевок. Синяя вечерняя мгла склеивает мне веки.
— Слушай, Ник… Я что-то устала сегодня. Я пойду, ладно? Спасибо, что проводила. Иди домой, а то мама, наверно, беспокоится, куда ты запропастилась. И всё-таки просмотри газету… Может, что и найдёшь.
Я глажу её по жёсткому ёжику, она льнёт ко мне щекой, и наши губы на секунду соединяются. Может, это и лишнее, я не спорю. Но каким способом мне ещё выразить мою к ней нежность? Мои пальцы выскальзывают из её руки.
— Пока, Ник.
— Пока, Настёнок.
Я иду домой, а она ещё стоит у крыльца магазина, с золотящимся в свете фонаря каштановым ёжиком, в мешковатых штанах с карманами и молниями, с задумчиво-мрачноватыми глазами в тени тёмных бровей. Очень не хочется оставлять её одну, в моём сердце шевелится к ней что-то тёплое, почти материнское. Это, наверно, её не устраивает, но ничего иного я не могу ей дать.
К своему удивлению я обнаруживаю у крыльца машину Кости и его самого, угрюмо-встревоженного.